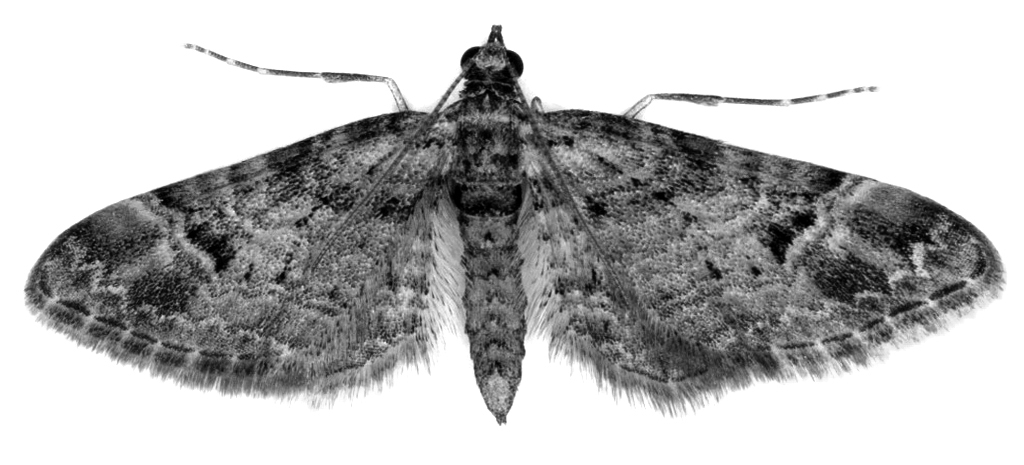Предисловие
Мать он запомнил в гробу.
Это первое четкое воспоминание,
Видимое как бы в подзорную трубу
С максимального расстояния.
Второе воспоминание – многократные
Экспедиции вглубь пещеры
Под верховодством старшего брата –
И многократные же возвращенья.
Вооружась двумя свечами,
Они ползли вперед на карачках,
Докуда хватало тусклого чада
Первой свечи. Там поворачивали
И кропили обратную дорогу
Второй свечой, покрывая надписями
Грубую каменную породу
(К примеру, желая мачехе накося
Выкусить – накося, дескать, выкуси).
Последнее же, что помнил из детства он, –
Это когда отец его высек,
А он сказал, что уйдет к индейцам.
Вскоре они его и похитили,
При этом внушив, что его родные,
То есть защитники и спасители, –
Мертвы, поэтому он отныне
Как бы индеец. И он уверовал,
Что сам их призвал, этих духов леса,
Неслышно пришедших за ним с подветренной
Стороны и убивших его семейство.
Той свечой, что пред ним горела
В диких краях, как во тьме пещеры,
Была вина за чужое дело,
Почившая на сыне священника.
Что он заколдован, он знал, не глядя
В зеркало, – жертва своей же мести,
Но пока над ним тяготело заклятье,
Он был человек на своем месте.
Он попал, натурально, к духам.
Его щипали, морили голодом,
Над ним глумились, он выжил чудом,
Когда ему проломили голову.
Торговцам-французам нарочно показывали
Маленького изможденного янки.
Те задарили его припасами,
Но ему перепало только яблоко.
К выживанью-каким-то-чудом
Подключались добрые силы,
То подкармливая, то врачуя
В духе сказок про бедных сирот.
А может – всего лишь однонаправленные
С силой жизни, – как боль в обрубке,
Как полет мотылька на пламя
Или рост бороды на трупе.
Ведь и само похищенье лешими,
Столь враждебными добрым силам,
Совершилось в угоду женщине,
Потерявшей недавно сына.
Ей казалось оно побегом
Из капкана Духа Симметрии,
Ведь отнять ребенка у белых –
Все равно, что отнять у смерти.
Если б, раненый, он внимательней
Присмотрелся к быстрому кругу,
То узнал бы в приемной матери
Перевернутую родную.
Но другая, в таком же трауре,
Отыскала его и выкупила
У мужчин, которым потрафила
Самой крепкой марочной выпивкой.
Новая мать была из союзного
Племени, лет ей было под сорок.
Весь остаток детства и юность
Сложились вполне прилично у Сокола.
И провел он свой век индейский,
Промышляя, женясь и пьянствуя,
Так кочуя с места на место
В 30-летнем медленном странствии.
□
Тексты этого цикла
Варьируют ряд эпизодов – не самых
Главных и выбранных почти беспринципно
Из его жизнеописания.
Здесь, пожалуй, совсем не показана
Сверхъестественность этой жизни, –
То она застревает в паузнике,
То сквозь дактили рифм крошится.
Суть же в том, что, теряя скорость,
Он упал, как Алиса в шахту,
Из истории в праисторию –
А потом взобрался обратно.
Из английского его уцелело,
Подтверждая потерю потерянного,
Только прошлое имя владельца –
Джона Теннера: Джон Теннер.
И горело оно свечою,
Равною дороге наружу,
Не давая пещерному черту
Утащить крещеную душу.
Ухватившись за это имя,
Как за некий обломок мачты,
Он нашел своих невредимых
Братьев с сестрами и вдовую мачеху.
И в своей простоте Гурона
Поспешил обратно к индейцам,
Чтоб явиться в облике Джона
Первобытной жене и детям.
□
Пушкин пишет свою рецензию,
Когда Теннер – еще сенсация,
Неграмотный автор почти бестселлера,
Мнущий доллары в цепких пальцах,
И, конечно же, находит забавными
Принципы демократии в действии:
Дикарь, питавшийся грызунами, –
И туда же, в рабовладельцы!
Да только жил он уединенно,
Порастратив свое наследство
На воспитанниц пансиона,
Силой вывезенных из леса.
Не поместилась в его «Записки»
И распрямившаяся кривая:
Заподозренного в убийстве,
Джона Теннера убивают.
1. Первый медведь
во сне берлогу
мать увидала
в берлоге – зверя
лапу сосуща
счастье в охоте
мать обещала
брат не поверил
а я послушал
пришел на место
и вдруг по пояс
в снег провалился
прямо в берлогу
дыханье зверя
мне в зад уперлось
насилу вылез
но ружья не бросил
приставил дуло
между глазами
и стрелил с богом
зверь не проснулся
дым отогнал
палкой потыкал
рукой погладил
двинулся в лагерь
был косолапый
цельным изжарен
кругол и жирен
каплями плакал
2. Сокол понравился курильщице табака
у индийцев таким образом не знакомятся
мой табак здоровый
с французской стороны
давай с тобой прохаживаться
как солдаты в карауле
сами не заметим как выкурим
всю трубку
ты приятный молодой человек
молчаливый
убил ты гризли
прямо в берлоге
и болотного лося
на болоте
но не смеешь ты
меня презирать
отворачиваться
от моей трубки
мать меня
хорошо воспитала
у меня сильные руки
я не чахоточная
с этой зимы проживу
три дюжины зим
3. Заря
Красавица его носила имя, имевшее очень поэтическое значение, но которое с трудом поместилось бы в элегии: она звалась Мис-куа-бун-о-куа, что по-индийски значит Заря.
Где щекотки я боюсь,
Что за богу я молюсь, –
Это знаешь ты одна,
Мис-куа-бун-о-куа.
Я дождусь больших торгов,
Там куплю за сто бобров
Молодого скакуна,
Мис-куа-бун-о-куа.
И поскачем мы с тобой
В мой поселок под горой,
Где поют колокола:
Мис-куа-бун-о-куа.
4. Носы
Один молодой человек бил старуху,
До того забитую, что разучилась плакать,
А другой, постарше, перехватил горячую руку.
Случилось же это в довольно темной палатке.
Тут в палатку вошел отец молодого человека,
Совершенно пьяный. Взревев утробно,
Подскочил он к обидчику сына и в мановение века
Откусил ему нос, как будто кусок патрона.
В палатку набился народ. В общей сутолоке
Заступник старухи, учуяв по перегару (но чем?!)
Своего врага, вдруг дернулся, как от судороги,
И откусил ему нос, как будто кончик сигары.
Так, без носа и с носом, стоял он, охваченный
Горем и радостью, как вдруг обнаружил,
Что враг его цел! Нос же отхваченный
Был друга семьи, доброго и смирного мужа.
Друг семьи не осердился на него нимало
И сказал: «Я стар, надо мной не долго будут смеяться».
А врага невредимого лихорадка так потрепала,
Что вылезли волоса и открылись язвы.
5. Пе-шау-ба прощается
Пе-шау-ба, еще не старый годами, рассказывал, говоря:
– До рожденья жил я в палатке Великого Духа,
На просторном облаке, у кромки небесной воды,
Которая не покрывается льдом.
Так и снуют бобры у небесных запруд.
Бить бобров на небе – женский труд.
Небесная вода чиста и прозрачна до самого дна.
Лежа на животе, я разглядывал землю, наблюдал земные дела,
Свесившись, видел немало разных диковин,
Потерянные монеты, красивых детей.
Целыми днями смотрел на земную женщину,
Что была как все на свете желанные вещи.
В одну из ночей, сидя против меня
Над звездной равниной ваших костров,
Расплывшихся под нашей водой,
Великий Дух перестал молчать и спросил:
Пе-шау-ба, ты любишь ее? – и уж был ему ведом
Ответ, и был он доволен этим ответом.
Спустись же к ней, проведи с ней несколько зим.
Но помни – ты брат моим детям в земном краю.
Не обращай внимания на выходки молодых людей.
И не слишком задерживайся там внизу.
Так он сказал и поспешно ушел в палатку.
Потому-то, брат мой, был я с вами и добр, и ласков.
Но когда под конями сиу просела земля
И у моей подруги случился выкидыш –
Я стоял во весь рост в пороховом дыму.
Теперь же, мой брат, пришло тебе время погоревать,
Потому что Великий Дух скучал без меня
И нельзя скучать ему больше ни дня.
6. Смерть управляющего
Отделение Гудзоновой компании на Красной реке
Возглавлял м-р Макдональд (или Макдоланд).
Его похитили и бросили на пустом островке
На съедение голоду.
Те трое, что на него напали, –
Французы на веслах и с ними за старшего
Метис, – были из Северо-Западной компании,
В подчинении у м-ра Хершела (или Харшилда).
Но сценарий голодной смерти на острове
Провернули французы. Как те и надеялись,
А может, сами же и подстроили, –
М-ра Макдоланда спасли индейцы.
М-р Харшилд поперхнулся трубкой
И впал в продолжительную икоту.
Он отправил метиса и другого сотрудника
Переделать работу.
По желанию м-ра Хершела,
М-ра Макдональда освежевали.
Напарник метиса будет повешен
По приговору суда в Монреале.
7. Призрак Сокола спускается по реке
Брошенная фактория
Возле Красной реки.
Псов не слыхать. Не вторят им
Лошади и быки.
Тянет туда без надобы
Белого мертвеца,
И он лодку спускает на воду
И, теряя черты лица,
В той лодке, спущенной на воду,
Плоскую, как ладонь,
Мчится мертвец в Канаду
Плоской тою водой.
Дух приемного племени
Поглощает его,
Разноцветными перьями
Убирает всего
И рождает повторно
Через прямую кишку
У старой доброй фактории –
Места приемки шкур.
Август – октябрь 2018
Archive for the ‘ДВОЕТОЧИЕ: 35’ Category
Евгений Сошкин: ДЖОН ТЕННЕР, ОН ЖЕ СОКОЛ
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 21:49Михаил Король: МОСКОВСКОЕ ТРЮМО
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 21:40«Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело». А.С. Пушкин
Мы, зеркала, оказывается, умеем не только видеть, но и слышать. Наверное, амальгама чувствительна и к звуковым колебаниям. Не важно. Аналитика – вот это действительно наше слабое место. Мы ещё хуже, чем чукчи в тундре. Мы не только поём о том, что видим и слышим, но и ни хера в этом не понимаем. Зато хорошо помним. Вот, расскажу немного о том, что я успело рассмотреть и расслышать в течение семидесяти лет своей жизни в Москве, столице сначала Союза Советских Социалистических Республик (СССР), а потом Российской Федерации (РФ). Если вас интересует, откуда я знаю про всякие историко-политические реалии, атрибуты и наименования, отвечу со всей зеркальной прямотой и ясностью: а я и не знаю! Просто считываю то, что попадает в поле моего вполне широкоугольного зрения. А туда за эти семьдесят лет попало столько всякой печатной дряни, вот и отражаю… Нет, конечно, всей этой фигни вам не вынести, так что – вот, держите самую малость; да еще постараюсь поменьше цитировать те документы, которые некогда лежали либо на столике под трюмо, либо на любой поверхности, что во мне отражалась. Честно говоря, не знаю, к какой категории зеркал себя отнести. Пожалуй, я – всё-таки trumeau, хотя и не занимаю простенок, и в качестве подставки имею не ножки, а достаточно массивную конструкцию с широкой столешницей и выдвижными ящиками. Но к разряду туалетных зеркал не отношусь. И уж точно я – не трельяж, как меня обозвала однажды Эльза Губергриц, достаточно редко посещавшая своих родственников, но каждый раз очень эффектно заполнявшая пространство. Возможно, я бы и не возражало против такой дефиниции, но в тот раз очень уж зычно фыркнул Борис Иосифович и заставил Льва притащить словарь Ушакова, чтобы раз и навсегда объяснить «твоей чересчур развитой в разных местах кузине» смысл слова «трельяж». «Впрочем, Эльзочка, как тебе, так и твоей тёте, в трехстворчатом зеркале будет тесновато», – ласково прошипел подполковник интендантской службы в отставке Б.И. Король. Лёва покраснел, а Сарра Моисеевна Губергриц мощным краешком мелькнула в моем боковом обзоре. А Эльза, тоже весьма крупная девушка, на критику не обращает внимания.
– Дядя Боря, вы – зануда! Жалко вам, что ли? Трельяж – похоже на грильяж, а я его очень люблю!
И Эльза продемонстрировала мне мелкие острые зубки. На отрывном календаре – 2 июля 1948 года. Пятница. Лёва Король закончил среднюю школу. Прямо подо мной лежал зеленоватый лист с буквами, похожими на те, что нарисованы на деньгах: «Аттестат зрелости». Там говорилось, что «настоящий аттестат выдан Король Льву Борисовичу, родившемуся в г. Смоленске 4 апр. 1930 года, в том, что он, поступив в 1943 году мужскую среднюю школу № 145 Ленинградского района г. Москвы, окончил полный курс этой школы в тысяча девятьсот сорок восьмом году и обнаружил при отличном поведении следующие знания по предметам…»
– Лёвка, ты – почти отличник! – щебечет Эльза, – вон сколько пятерок! Ой, одна тройка тоже есть, по физике! Всё равно, какой же ты умный.
– С пятёрками по русскому языку, истории СССР и конституции наш сын Лефф собирается поступать в технический ВУЗ, ну-ну, – подает реплику старший Король.
– Идите за стол! Ведь у Лёвочки праздник! – далекий голос Сарры Моисеевны.
…Вот не получилось по порядку. Начать надо было, конечно, с той ободранной конуры, что рядом с Лубянкой. Это мой самый первый московский дом, если не считать, конечно, Солнечногорскую стекольную фабрику, меня сформировавшую, и древесные мастерские Фортинбраса при Умслопогасе им. Валтасара, в которых (и ни в каких других!), по словам Бориса Иосифовича, меня вставили в фигурную наборную раму из изъеденного древоточцами орехового дерева. Мы заняли эту грязную комнату в феврале 1936 года, и я там было самой красивой мебелью. Из разговоров домочадцев стало мне известно, что в Смоленске, где они жили раньше и где родился Лёвушка, такого роскошного зеркала у них не имелось. «Вот как полезно быть братом влиятельных людей!» – приговаривала Сарра, а Борис Иосифович иронично выгибал правую бровь, загоняя её чуть ли не на макушку. Много лет спустя, его невестка, созерцая гримасы Короля-старшего, назовет его Барбарисом. А что? – похож. Часто видело его красномордым и как-то немного скукоженным, но при этом острым, ироничным, и всегда изящно-подтянутым, даже когда он был пьян. Так буду называть его и сейчас. Еще там, на Лубянке, жили в нашей квартире клопы. В зеркало они не смотрелись, правда, никогда… Но мерзкие черные точки оставляли повсюду. Или бурые пятна, если удавалось, по выражению Барбариса, «призвать империалистического кровопийцу к ногтю». И как эффектно чесался Барбарис! А Сарра кричала: заверни его в бумажку, Боря, и сожги!» А Лев хлопал-хлопал глазами, а потом вдруг начал как-то судорожно хватать ртом воздух и тихо сполз по дверному косяку на пол… «Приступ! Астма! Дышать! На улицу! Но ведь мороз! Дышать! Дышать!» – мальчика заворачивают в одно толстое одеяло, во второе, и Барбарис выносит его из комнаты.
Довольно скоро из этого душного клоповника мы переехали в гостиницу Центрального Дома Красной Армии, на площадь Коммуны, между Божедомкой и уголком Дурова (Лёва туда рвется чуть ли не каждый день). Сначала мне тут было не особенно интересно: Королей поселили в трехкомнатном номере, и меня поставили в самой дальней комнате, да еще и так, что я видело только угол комнаты и окно. Ничего интересного я там не смогло рассмотреть: унылый пустырь и строительные леса вдали. То ли дело, когда мы переехали в однокомнатное жилье этажом выше. Здесь, в номере 236, я за два года хорошенько сумело разглядеть и обстановку, и собственных хозяев, и их гостей. Чаще всего я вижу здесь Сарру Моисеевну, сгорбившуюся над пишущей машинкой «Континенталь». Иногда Сарра перетаскивает свой печатный аппарат прямо на столик подо мной, и так бешено лупит по клавишам, что я дрожу. Зато могу рассмотреть разные интересные детали. Например, что машинка эта выпущена немецкой фирмой «Wanderer Werke A.G.» в 192… – а вот в каком точно году, сказать не могу – цифра выбита нечетко… Сарра работает иждивенкой. Это мне стало ясно из справки, которую шутник Барабарис специально вкрутил в «Континенталь», будто бы жена и напечатала её. Сарра весьма скоро обнаружила бумажку, насупила брови, но, прочитав, радостно закудахтала: «Габт-габт-габт!» Бумажку же положила так, что я увидело весь текст:
«Пролетарии всех стран соединяйтесь! На наш № обязательно ссылаться. (Изображение небольшой красной пятиконечной звездочки.) СССР. Центральный орган Народного Комиссариата Обороны СССР. КРАСНАЯ ЗВЕЗДА (красными буквами). Редакция. 13 июля 1937 года. № 319 (фиолетовыми чернилами). Москва, ГСП, Покровка 7. Телефон № 4-90-29. СПРАВКА. Дана настоящая Король С.М. в том, что она действительно находится на иждивении ее мужа – инструктора ЦО НКО СССР «Красная Звезда» – тов. Король. Дана для предоставления в дирекцию ГАБТ. Секретарь издательства /Кулагина/. (Фиолетовая финтифлюшка.)»
Со временем проясняется и просветляется (очень хорошие для зеркал слова «ясный» и «светлый», заменяющие достаточно пустую для нас дефиницию «понятный»), что профессия Сарры – не только иждивенка, но и временная машинистка в отделе управления делами ГАБТа. С ним тоже становится все мне ясно в те минуты, когда передо мной появляется хихикающая кудрявая блондинка в грубом бюстье. Барбарис пристроился сзади и крепко прихватил деву за крупные перси.
– Борис Осипович, вы не боитесь? – она кривит алые губы и смотрит на меня в упор.
– Нет, мадмуазель, – рука Барбариса сползает на трепещущий живот, – это чувство не может быть знакомо красным командирам, даже если они числятся по интендантской службе и пишут трактаты про крепкую воинскую дисциплину и строгий строевой порядок, как основу жизни советской армии. А мы, спецкоры-краснозвездовцы, не остановимся ни перед какими испытаниями, уважаемая Наталья Тимофеевна.
– А жена и сын? Вдруг они сейчас придут?
– Не извольте беспокоиться, сударыня, – рука Барбариса плавно скользит вниз и немного в сторону, к завязкам на бедре, – Лёвушка в пионерском санатории, а Сарку я лично пристроил в дивное место на полный рабочий день. Да-с, завидуйте, товарищ делопроизводитель, моя жена служит в Государственном академическом Большом театре СССР.
– Врете!
– Да вот те, красная звезда!
– ГАБТ, – завороженно шепчет Наталья Тимофеевна и зажмуривается, – вот счастливая! В театр каждый день ходит, с ума сойти… Самого Лемешева, небось, тоже видит с утра до вечера. Ах, какой он!.. Ох!.. Борис Осипович, да что ж вы такое делаете?..
– Т-с-с, Наталья Тимофеевна! Это к тебе Лемешев заглянул на огонек. О, да-а-а!
– У-у-у-у!
…Передо мной однажды промелькнуло письмо Борису Иосифовичу из Воронежа, датированное 29 ноября 1934 года. Так были такие строки: «Как же – значит можно целовать и необыкновенным образом? Я вас тоже целую. Обыкновенным образом. Наталья». Что ж, есть вероятность, что три года спустя она добралась до Бориса.
…Блондинка тряхнула кудряшками, открыла глаза и вдруг, коротко хохотнув, смачно меня поцеловала. Ого! Это – обыкновенный образ? На стекле остался сочный алый след. Разглядывать его ажурные бороздки, конечно, интересно, но теперь на все остальное, что я разглядываю, наложен жирный отпечаток жадных губ. Он остается даже после того, как Борис размазывает помаду по стеклу. Вообще с годами смотреть мне становится труднее и труднее: зрение портится, и я вижу мир через множество мушиных точек, опрелость, затуманенность, паутинку сверху, оттиски папиллярных узоров, пыль и несколько трещинок в угловых полях обзора. Потеря ясности и светлости – признак ухудшения зрения зеркал. Несколько раз меня мыли, но людям невдомёк, что от воды может произойти самое ужасное – потемнение амальгамы, а это уже почти слепота. Интересно, что параллельно со зрением теряется и слух…
А про Лемешева я слышало в те дни часто. Сарра Моисеевна рассказывала о нём с придыханием. О том, как выступая в Краснознаменном зале Центрального Дома Красной Армии, Сергей Яковлевич все два отделения глядел, не отрываясь, на прекрасную незнакомку, то есть мадам Король-Губергриц.
– Он пел специально для меня! – торжественно заявила Сарра.
– Блеющий козёл – вот кто такой твой Лемешев. Ленский, одним словом. Пристрелить – и точка, – возмутился Барбарис, – чтоб я больше имени это не слышал!
– А я не желаю, чтобы ты якшался со своими шалавами!
– Тут Лёва! Сын, пойди погуляй! Держи рубль.
– Не смей подкупать ребёнка!
– Молчи, женщина! Ступай, Лев… Сарка, слушай, еще немного, и я уйду жить в редакцию «Красной звезды» …
– Ы-ы-ы-ы.
– Да не реви, дура. Вон зеркалу и тому тошно смотреть на твою размокшую личность…
Ругаются они часто и страстно. Но со временем Лева перестает бояться, что папа «уйдет навсегда». Куда? Не в редакцию же, в самом деле, где, как я однажды услышало «рабочий стол для Короля – обетованная земля». Это была такая шутка.
В 1938 году мы снова переезжаем. В коммунальную квартиру в доме на проспекте, который называется Ленинградским. Здесь я простою 28 лет. Короли занимают всего одну комнату. С одной стороны, мне видно хорошо, но с другой… Борис Иосифович любит гостей, но комната так тесна, что застолья с особо важными гостями Короли устраивают у соседей по коммуналке, в 32-метровой комнате, в которой живет Броня Давидовна Кац и её сын Слава. Но и в нашу комнату, нет-нет, но заглядывают друзья-«краснозвездовцы». Чаще всего Саша Шуэр и Лёва Иш, всегда громкие, веселые и растрёпанные. Шуэр пишет под псевдонимом П.Огин. Ему доверяют писать про новинки кинематографа. Что такое фильмы, я узнало гораздо позже, когда стало смотреть телевизор в последней квартире Королей. Картину «Ленин в 1918 году» тоже увидело, и, оказалось, что читало об этом фильме шурину статью 3 марта 1939 года. Там еще так было написано: «По коридору идет высокий, широкоплечий, немного сутулый человек – Горький (артист Н.Черкасов). Он открывает дверь в кабинет Ленина. Обрадованный Владимир Ильич идет навстречу, горячо жмет руку, забрасывает вопросами, но Алексей Максимович настроен мрачно. – Владимир Ильич, – обращается он к Ленину, – арестован профессор Баташев. Это хороший человек. – Что значит «хороший человек»? – хмурясь, спрашивает Ленин. – А какова у него политическая линия? – Баташев прятал наших. – А может он вообще добренький? Раньше прятал наших, а теперь прячет врагов? – Это человек науки – и только. – Таких нет, – отрезает Владимир Ильич». О фильмах в «Красной звезде» пишет и Руня Моран. Несколько раз видело его. И до войны, и после. И после того, как он семь лет отсидел в лагерях. И стихи его тоже читало. Вообще-то он – Рувим Давидович, но Барбарис зовет его Руней. Кстати, самого Барбариса его племянницы зовут Тёпой. Да, так вот стихи Руни я прочитало уже после смерти Тёпы. Вот эти:
«Запнешься на полуслове, Споткнешься на полдороге, Погибнешь от полулжи. Так значит, будь наготове, В постыдной дрожи тревоге И сам себя сторожи? Неволя – моя недоля, Свобода – моя забота, Я – почва её семян. Бесславна полуневоля, Бесправна полусвобода, И обе они – обман. Возможна ли получестность? Бывает ли полуподлость? И где между ними грань? Растленности повсеместность Нам алиби тычет под нос, Попробуй-ка, совесть, встрянь! Убийцам ещё не страшно, Блудницам ещё не тошно, Беспечен ещё Содом, И зло ещё бесшабашно… Но Страшный-то суд уж точно Не будет полусудом!»
А самого Барбариса не так уж и часто я видело в 1939 году. Что такое командировка? Это когда Бориса Иосифовича нет дома. Но командировка командировке рознь. В 1936 году, например, командировкой Барбарис называет загулы. Он сам мне в этом признался, с омерзением вглядываясь в отражение хронических синяков под глазами. А в 1939 и 1940 годах командировки – это и в самом деле командировки. Почти весь год старшего Короля нет, и судя по статьям, публикующимся в «Красной Звезде», номера которой Лёва все время раскладывает передо мной, он – то в Киевском военном округе, то в Минском, то в Ленинградском, а под конец года его вообще занесло куда-то на север, сначала в Петрозаводск, а потом на линию Маннергейма. Вот, №271 от 27 ноября: «Финские мальбруки слишком далеко зашли в своей картежной политической игре. Настал час унять бандитов!» А иногда, читая краснозвездовские статьи Короля, я вдруг ощущаю какой-то непонятный внутренний зуд, вибрацию, будто пролетел надо мной самолет, и тогда понимаю, что это, наверное, и называется чувствительностью… Связан этот зуд всегда с тем, что Король вдруг пишет или что-то делает так, будто бы понимает внутреннее устройство зеркал. Первый раз нечто подобное я испытало, прочтя в достаточно бессодержательной статье из 35-го номера от 12 фефраля 1940 года такую мысль: «Быстрая острая наблюдательность – родная сестра инициативы и военной хитрости. Тот, кто обладает этим неоценимым качеством, не даст себя в обиду и всегда перехитрит врага». Точно! – завибрировало я, – у нас надо учиться! А еще со мной такое происходит, когда Борис Иосифович рисует, особенно самого себя, глядя в меня… С 1941 по 1945 годы под командировкой подразумевается война. А в 1950 году была еще одна командировка, долгая, аж на три года, в Иркутск, в редакцию какой-то областной газетёнки. Но почему-то родные Короля называли эту командировку ссылкой. И вернулся оттуда Борис Иосифович совсем другим. Усталым. Постаревшим. Больным. Но вот именно тогда он и рисует больше всего, а я неслышно подрагиваю изнутри, то есть по-зеркальному переживаю… Когда гости нашей комнаты смотрят на картинки Барбариса, то часто говорят одно и то же слово – «о, похоже!» Был такой разговор у Бориса с его другом Сашей Шуэром перед самой войной. «Никто, – сказал Шуэр, – не смог меня нарисовать похоже. Даже Кукрыниксы, даже Ефимов! В этом моя неповторимость, Боба!
– Саша, ты хочешь, чтобы портрет был похож на тебя? Это можно сделать. Для тебя «похожесть» – это то, что ты привык видеть в зеркале. Так вот что мы сделаем: я нарисую твою физиономию, глядя не на тебя, а на твое отражение в этом трюмо, хорошо?
– Ну, рискни, твое величество, – скалится Саша, – посмотрим-посмотрим.
А еще через десять минут:
– Ого, похоже! Дашь мне?
И больше я никогда не видело ни Шуэра, ни его портрета. Мне потом Барбарис рассказывал, что Саша погиб под Киевом осенью 1941 года, в окружении, которое называли «Уманьским мешком»… А Лёва Иш погиб в Севастополе. Борис Иосифович смотрел на меня воспаленным красным глазом, и потухшая папироса дрожала в правом углу его рта. «Суки, суки, – шептал этот рот, – почему не меня – в Киев? Мне надо там быть, мне… Хочу стрелять, хочу дырявить гадов, а мне – интендант! Суки, суки…» Я так никогда и не узнало, стрелял ли майор Король, но до Восточной Пруссии он дотопал, факт. Надо сказать, что я не читало газет довольно долгое время с начала войны, аж до марта 1943 года, когда вернулись из эвакуации Сарра Моисеевна и вытянувшийся Лев. До этого вообще было затянуто черным сукном, которое Сарра притащила специально для меня еще за пару лет до войны.
…Семь раз меня завешивали этой пыльной плотной тканью. Два раза в 1939 году. Сначала когда умерла Шарлотта, а потом – Феня. Это родные сестры Барбариса. А в феврале 1940 года расстреляли брата Мирона. Борис тогда подошел ко мне со стаканом водки. Залпом выпил, а потом стряхнул остатки прямо на стекло. И как-то скривился. Или это сквозь капли водки так было видно? И стал меня завешивать знакомой тряпкой. Вдруг подлетела жена.
– Ты с ума, Борька, сошел? Прекрати, а если увидят, а если узнают? Мирон же не просто враг народа, он самый главный враг! И тебя тоже расстреляют!
И тут первый и последний раз на моей памяти Борис Иосифович отвесил Сарре пощечину. Смачно. И ничего не сказал. И на семь дней отключил меня от созерцания, завесив этим сукном. Ну, во время войны полтора года я было закрыто. И в 1946 году, когда еще один брат Бориса, Миша, умер. Следующий раз – уже в новом жилье, отдельной двухкомнатной квартир на Сходне. «Коллектив редакции газеты «Красная звезда» с прискорбием извещает, что после продолжительной тяжелой болезни скончался военный журналист – фронтовик, бывший краснозвездовец подполковник в отставке КОРОЛЬ Борис Иосифович, и выражает глубокое соболезнование семье покойного». И с июля 1967 года я больше не ощущало той вибрации, того зуда… Хотя рисунки Короля, на одном из которых я само изображено, висели на стенах и отражались во мне еще очень долго, до самого почти конца… Последний раз меня занавесил поседевший Лёва в 1985 году, и больше я уже не видело сутулую гору Сарры Моисеевны… В тот раз перед тем, как меня укутали, я увидело очень интересное лицо: высоченный лоб с розовой бородавкой посередине, черные мохнатые брови-гусеницы, горбатый нос, скошенный к левой скуле, выразительные глубокие морщины, длинная рыжая борода с проседью…
– Вы спрашиваете, зачем мы это делаем? Чтобы не отвлекаться от скорби. Вы, Лев Борисович, где молитесь? В спальне? Правильно, нельзя молиться у зеркала, это, знаете, как будто самому себе… А в дни скорби люди будут молиться и здесь… И отец ваш так делал? И не рассказывайте мне, что он был не праведник! Ну, и что из того, что он был атеист? Вам же это не мешает молиться за память родителей…
А потом с годами и Льва Борисовича вырастает пушистая белая борода. Он часто сидит передо мной и читает письма от сына и внучки из Израиля. Сына зовут Мишей, и он тут несколько раз мелькал. В начале восьмидесятых этот лохматый студент иногда появлялся здесь с веселыми девицами буквально на ночь, а на следующее утро уже мчался с ними куда-то далеко, то в Грузию, а то и на Дальний Восток. Однажды Миша подошёл ко мне и вдруг состроил абсолютно такую же рожу, как и его дед Борис: иронично загнал правую бровь чуть ли не под самую челку. В руках он держал продолговатый предмет цвета почерневшего серебра. Я раньше эту вещь не видело.
– Пап, это что за антиквариат у тебя на антресолях догнивает?
– А, сынка, молодец, что нашёл! Самая ценная вещь, что осталась от киевских Королей. Какая-то старинная сахарница. Видишь, на донышке написано 1634? Наверное, год. Папа говорил, что она как-то с Бродским связана была, но я не помню, как?
– С Иосифом, что ли?
– Нет, был такой сахарозаводчик в Киеве. Знаешь, как говорили? Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого… А Иосифом звали моего деда, твоего прадеда.
– Ты помнишь его?
– Нет, конечно. Они с бабушкой умерли единочасно в гражданскую… От испанки, от гриппа.
– Ничего себе! И эта сахарница все, что от них осталось?
– Почти… Еще вот есть две фотографии. И…
– И?
– И мы с тобой!
– Слушай, а что там внутри, в этой сахарнице? Крышка будто прилипла… Чем-нибудь подцепить надо.
– Оставь, сынка, не будем ломать старую вещь. Пусть стоит себе, где стояла. Когда-нибудь передашь ее своим детям или внукам.
…Как-то все с годами тускнеет, темнеет, жухнет… По-прежнему передо мной справки, документы, картинки, фотографии, чьи-то лица. Но с остротой восприятия – проблемы. И я уже не так жадно считываю всё, что попадет в поле отражения. Но вижу совершенно сумасшедшие сборы. Вся квартира перевернута вверх дном. На полу – картонные коробки, баулы, чемоданы. Груды бумаг вывалены из моих ящиков. Обессиленный старец полулежит в кресле. Лев Борисович умирает. Всклокоченная борода Миши нависает над новой пачкой справок. Вижу, что ему удалось в считанные дни получить разрешение на перевоз отца к себе, в деревню под Иерусалим. С собой Короли берут рисунки Барбариса, рукописи, фотографии. И сахарницу. Все остальное – бросают. Меня тоже.
Несколько недель спустя, сюда приходят люди в синих комбинезонах и выносят оставшиеся вещи. Меня пытаются снять с моей столешницы, сильно дергают вверх, и – ого! – сначала потолок летит мне навстречу, а потом – пол, и вот я слышу звон и треск, и весь мир распадается на длинные узкие лезвия. Но я по-прежнему вижу его и слышу. Даже когда весь мусор вместе со мной выносят из дома и кучей сваливают позади мусорных контейнеров, стоящих под тополями.
…Вдруг порыв ветра бросил к одному из моих осколков обрывок машинописного листа, и я успело прочесть – «Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз и убей!» Да-да, это Симонов. Константин Симонов. Он тоже к нам приходил, еще на Ленинградское шоссе, и Борис однажды нарисовал, глядя в меня (чтобы было похоже!) этого аккуратно причесанного человека с щеточкой усов под тонким носом…
…А потом я еще довольно долго видело раздробленное небо – разного цвета, с облаками и без, иногда пересекаемое птицами и следами реактивных самолетов, то сквозь дождь, то сквозь туман или снежинки, со звездами или с размытыми сумерками, разное в разные часы, разбросанное остроконечными кусками, но одно и то же…
Галина Блейх: УРОКИ ТРЕХМЕРИИ
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 21:09Фрагмент романа
From: Galina [mailto:galina@hyperreality.com]
Sent: Sunday, September 12, 2004 5:20 PM
To: My Student
Subject: Re 3D lessons
Здравствуй, мой милый Ученик!
Вижу, что ты усвоил мои предыдущие объяснения и справился с упражнением. Присланные тобой работы недурны, поэтому мы можем двигаться дальше. На этот раз я расскажу тебе о Reference Coordinate System (Относительной Системе Координат).
Представь себе, что свечение экрана твоего компьютера привлекло сегодня ночью маленькую бабочку. Она впорхнула в душное ночное окно и спланировала на поверхность экрана, и вот теперь который уже час сидит неподвижно, позволяя мне созерцать дивную изнанку своих крыльев. Я не знаток биологических терминов, но поскольку в доступном нам мире почти все уже названо, пытаюсь опознать ее с помощью интернета. Наша бабочка оказалась мотыльком (ключевое слово для поиска – Moth, и это – после неудачи с Butterfly). В нескончаемой череде найденных компьютером изображений узнаю ее по характерному абрису крыльев и струящимся по ним нежным изломанным полоскам. Мне сообщается, что передо мной Gymnoscelis rufifasciata, илиDouble—striped Pug (так зовется этот мотылек по-английски), что размах его крыльев 15-19 мм, а также что впервые он был описан неким Хавортом (Haworth) в 1809 году.
This often brightly-colored species is fairly common, – рассказывается дальше в статье, and generally has two broods, flying in April and May and again in August, though it can be found on the wing as early as January in mild winters. It occupies a wide range of habitats, including suburban areas, and is a regular visitor to the light-trap. The larvae feed on the flowers of a range of plants and bushes, including gorse (Ulex) and holly (Ilex).
Признаюсь, что я было воспользовалась он-лайновым переводчиком, чтобы привести тебе это описание сразу по-русски, и вот какой удивительный текст возник передо мной после недолгой процедуры автоматического перевода:
Это часто разновидность ярко-цвета довольно обычна, и вообще имеет два выводка, летя в апреле, и Может и снова в августе, хотя это может быть найдено на крыле уже январем умеренными зимами. Это занимает широкий диапазон сред обитания, включая пригородные области, и – регулярный посетитель легкой западни. Личинки питаются цветами диапазона заводов и кустарников, включая утёсник обыкновенный (Ulex) и падуб ((Ilex).
Теперь, неожиданно приобщившись ко всем этим бесполезным знаниям, давай дадим нашему знакомцу также имя собственное, и пусть имя это будет Пивот. Он-лайновый переводчик сообщает, что Пивот – это центр, ось или точка вращения, стержень, и на этот раз, судя по всему, он прав.
Мне бы не хотелось, чтобы ты заподозрил меня в сентиментальной приверженности к расхожим символам. Надеюсь, тебе уже известно мое непримиримое отношение к розам, бабочкам, бантикам и сердечкам. Но мой нынешний выбор обусловлен, прежде всего, наглядным присутствием объекта, его неброской красотой и относительной подвижностью. Итак, вначале тебе предстоит построить модель этого мотылька в трехмерной программе, затем анимировать его, соотнося траекторию полета с разнообразными системами координат, и только потом заполнить его мир всевозможными объектами и научить его достоверным движением огибать эти препятствия в полете. Вперед же, мой ученик!
Вначале вооружись дигитальной камерой и сфотографируй крупно нашего мотылька сбоку, так, чтобы отчетливо был виден узор на его крыльях. Эту фотографию ты впоследствии используешь в качестве текстурного изображения, «наклеив» его на созданную тобой пространственную модель. Саму эту модель, я думаю, ты уже в состоянии построить самостоятельно. Подскажу лишь, что сначала нужно провести замкнутые линии абриса верхнего и нижнего крыла, затем обтянуть этот «каркас» неким подобием мембраны с помощью создающего поверхности модификатора и, зеркально скопировав симметричные крылья, расположить их вдоль оси мотылькового тельца. Тельце и головку ты сможешь построить из стандартного набора геометрических объемов, которыми в достатке оснащена программа, слегка деформировав их в соответствии с пропорциями нашей «натуры», для чего тебе потребуется верный глаз и твое умение рисовать. Для деформации используй соответствующие модификаторы. Внимательно рассмотри усройство ножек и то, как крепятся они к брюшку мотылька. Достаточно построить только одну из них, остальные пять получатся методом «клонирования». Теперь правильно расположи ножки в пространстве, развернув под нужным углом по отношению к туловищу, дополни головку усиками, и – модель готова.
Пока что твой мотылек имеет условную окраску. Для того, чтобы добиться реалистического эффекта, мы используем, как я уже упоминала, фотографию. Компьютерная программа, которой ты пользуешься, позволяет обтягивать трехмерные объекты двухмерными изображениями, которые принято называть картами. Такая «карта» у тебя уже есть – это фотография мотылька, сделанная тобой полчаса назад. Осталось лишь аккуратно совместить ее с построенной тобой моделью.
Ну что, доволен ли ты результатом? Похож ли твой мотылек на моего, который до сих пор сидит маленькой брошкой на экране моего компьютера?
На сегодня – все. Пришли мне то, что получилось.
Г.
From: Galina [mailto:galina@hyperreality.com]
Sent: Tuesday, September 14, 2004 8:40 PM
To: My Student
Subject: Re 3D lessons
Здравствуй, мой милый Ученик!
Ну что же, совсем не плохо для начинающего “трехмерного” художника. Судя по всему, мои уроки идут тебе на пользу. Как видишь, я не упустила случая похвалить и свои педагогические способности, но ведь вполне заслуженно, не так ли?
У мотылька, которого ты построил, есть только один недостаток – он напоминает засушенный экспонат в энтомологичесой коллекции, и нашей сегодняшней задачей будет вдохнуть в него жизнь. Прошлый раз я обещала тебе поведать об Относительной Системе Координат. Без этого знания ты не сможешь обучить своего мотылька летать, поэтому отнесись внимательно к тому, о чем я сейчас буду рассказывать и постарайся создать в своей голове стройную систему новых для тебя понятий. Одно из таких понятий я исподволь уже ввела в наш лексикон на предыдущем уроке, назвав мотылька странным именем Пивот. Так, вот, пивот, или центр, имеет как физическое, так и условное значение. Мы можем по своему произволу перемещать этот центр в любую точку мироздания, каждый раз принимая ее за новую систему координат. Например, водрузив пивот в центр земного шара, мы назло всем астрономам заставим Галактику вращаться вокруг Земли. А совместив центр мироздания с самим собой, получим удобнейшую систему координат для взаимодействия с окружающим миром. Мы можем создавать бесчисленное количество пивотов, присваивая каждому из них выбранный нами круг объектов и идей. Затем стоит подчинить одни пивоты другим вместе с привязанными к ним элементами, выстроить их них своеобразную иерархию координатных систем – и вот перед тобой твоя, индивидуальная картина мира. Одно движение – и ты меняешь зависимости, разрываешь тобою же назначенные связи, рушишь и строишь заново пространства своей прихотливой воли. Не закружилась ли у тебя голова, мой мальчик? Не возомнил ли ты уже себя Творцом всего сущего? Не бойся, милый, привыкай к своей новой роли, ибо мы, пользователи трехмерных программ, отныне воспринимаем только такой способ взимоотношений с действительностью.
Вернемся к нашему мотыльку. Оживлять его нужно последовательно. Выбери любое крылышко и помести его собственный пивот в ту точку, где оно крепится к туловищу. Для этой цели найди в программе панель управления пивотами и изучи ее возможности. Получилось? Таким образом, ты присвоил центр вращения объекту по имени «крыло», и как бы теперь его не поворачивал, крыло будет вращаться вокруг выбранной тобой точки. Осталось правильно определить направление и угол вращения и построить анимацию. Я уже объясняла тебе, что такое анимационные ключи. Каждый ключ фиксирует определенное состояние объекта на шкале времени, в нашем случае – положение крыла. Один ключ – когда крыло максимально раскрыто, другой – поднято вертикально вверх. Интервал между ними – время одного взмаха. Построй аналогичным образом анимацию для остальных крыльев и запусти ее в бесконечно повторяющемся режиме. Теперь твой мотылек безостановочно машет крыльями на одном месте, так и не отправившись в полет. Оставим это до друго раза. Как обычно, присылай мне файл с тем, что у тебя получилось.
Сегодняшний урок окончен.
Г.
From: Galina
[mailto:galina@hyperreality.com]
Sent: Tuesday, September 18, 2004 8:40 PM
To: My Student
Subject: Re 3D lessons
Здравствуй, мой милый Ученик!
То, как бедный наш мотылек в присланном тобой файле бесконечно имитирует летательные движения, так и не отправившись в полет, напомнило мне мои собственные душевные трепыхания. Но не буду об этом. Замечу лишь, что для того, чтобы летать, недостаточно безостановочно махать крыльями на одном месте. Нужно построить траекторию полета (path) и привязать его исходную точку к объекту, который, по нашему с тобой замыслу, должен научиться летать. Для этого необходимо пододвинуть построенную тобой «дорожку» к мотылку. Можно действовать и наоборот, то есть «привязать» объект к его будущему пути, что значит – перенести мотылька в точку начала движения. Это – на твой выбор…Так или иначе, полет непременно должен иметь начало, коненую цель и траекторию, связывающую эти две точки. Еще надо задать желаемую продолжительность полета, которая определит его скорость при движении по заданной траектории. Или наоборот – задать скорость, которая повлияет на продолжительность движения. Здесь все, как и в реальной жизни, зависит от приоритетов.
Твоя анимация должна быть весьма убедительной, если ты хочешь научиться обманывать. Ведь именно в создании иллюзий и состоит наша профессия. Зритель обязан принять соданную тобой модель за живого мотылка, снятого на видеокамеру. Впрочем, всякое видео, в свою очередь, – такой же несомненный обман, однако оставим эти рассуждения за пределами нашего урока. Чтобы добиться правдоподобия (правдо-подобие – какое верное слово!), прими во внимание, что мотыльки, как, впрочем, и люди, имеют довольно непоследовательную траекторию движения. Именно поэтому про них говорят «порхает». При взгляде на полет мотылька не всегда понятно, куда же он, собственно говоря, пытается попасть. Увы, часто конечной точкой его порханий становится горящий фонарь. Именно такой уличный фонарь, усеянный темными пятнышками пригоревших к нему мотыльковых тел, я вижу по ночам из моего окна. Фу! И стоит ли вообще, мой друг, так уж стремиться к свету?
Но вернемся к нашей анимации. Кстати, слово «анимация» происходит от латинского animatio и означает «оживление», или «одушевление». Это наводит меня на мысль о том, что мы, подобно Всевышнему, собираемся вдохнуть душу в нашу трехмерную модель. Не правда ли, весьма самонадеянно? Да-да, и ты, мой милый Ученик, берешь на себя эту миссию! Так выполни же ее безукоризненно! Жду твоего файла!
В дополнение хотелось бы, чтобы ты поразмыслил о том, что такое «одушевление». Не грустно ли тебе оттого, что в создаваемом тобой трехмерном компьютерном мире «анимация» – всего лишь обман? Не пугает ли тебя такое положение дел? Не окажется ли вдруг, что и нас одушевили таким же ненастоящим образом? Напиши мне, что ты обо всем этом думаешь!
Г.
Александр Альтшулер: В КОРЫТЕ СИДЕЛИ ГОСТИ
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:42В корыте сидели гости
***
Ну что же? Время кончилось, все гарантии прошли, осталось… жизнь и не жизнь, песня и не песня, начальное и безначальное, конечное и… прыжок в пропасть, выдержка и оригинальность, после и потом, можно и нельзя и прочие словесные и бессловесные отчаяния и восторги, тишина за забором, дым из трубы, холод из щелей и отчаянное шутовство ряда и не ряда, привычного и отдельного, природы безжизненной и продолжающейся в закрутке и сомнениях, с явным желанием продолжения, искусства из ошибок, бешеной погоней за ничто, без связок и интереса с инстинктом физиологического достоинства, отряженного быть вездесущей отрыжкой животного или другого происхождения.
А теперь о другом – о встрече и не встрече, диалоге и внутреннем противлении, о безумстве укрощенном и поступке, праве и инстинкте и о зажатом и воспрянутом мире, о другой стороне решений и желаний, проступающей через охранные перегородки и никогда не явленные в чистом виде, и лишь отражения ловим мы и пугаемся соседства, как возвращения и отодвигаем его одиночеством состояний издалека и во сне, и в точке начертаний закручиваем до невозможности и…
<1995>
*** В корыте сидели гости, мир изломался бездонной чашей. Литература по значению занимает второе место после жизни. Не пачкай волну – доведет до предела. Множество людей напоминает рогатых и носатых гусениц с очками и без, маленькая улитка притворилась большой, жук воспринимает то же, что и мы в уменьшенном, но более естественном варианте. – Безумной радости я отдавала душу. – И что теперь? – Возможное всегда. – Не отклоняйся, верен одному. – И потому не верю в преднамерия. – Плыви в чужом пространстве постепенно. – Но и тогда не верен самозванцу дух, выделяющий чужую плоть. – Верни себя дороге постепенной, во встреченных не признавай друзей. – Поверхностью любимого не трогай. – И мир иной, молчание теней, и все сливается, где воля – пустота. <1995>
***
Дома, дома, домики, затихшая жизнь. Кому раскапывать это. Берешь на себя больше, чем можешь. Дурость в молчании. Освобождение в молчании и… ожидание короткое, длинное, пространное и пространственное. Зависимость в молчании и независимость в другом. Кто, где, – всегда рядом. Путь наверх, не замазаться на предстоящем. Государственное облегание. Периоды общественного пульса. Никого не кори в собственной несостоятельности.
<2005–2012>
ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ…
Что будет, то будет или не будет вообще, об этом знаем, не знаем, подходим и уходим, видим стену и молимся на нее, не видим других, не видим и себя, бросаемся на колени, путешествуем и стоим, и все по порядку связываемся и развязываемся, приходим и уходим, не ведаем и случай гуляет в лотерею по инертным вариантам и вдруг просыпается некто и называет себя гением, хотя ничем не отличим от других, скромно, со вкусом, в меру, в общении, взгляде, походке, в позднем и раннем, в деятельном и инертном, ищем в одном и том же, находим неподалеку, и далее, где?
Программируем будущее, отстаем от настоящего, убегаем в прошедшее заставкой нерожденного и в прострации очередности
<2005–2014>
*** Бледное тонет в голубом голубое тонет в синем синее тонет в черном черное в сером с сюртуком алым алое в белом походка щеголяет населением прячется, толпится и исчезает за закрытой дверью с необозначенным бессчетным. Синее гордится произношением черное втягивает пустоту в себя красное располагает влечением розовое горя́че зеленое в обыкновенной усталости желтое – первоцвет голубое в белом венчается и сиреневый виден цвет черное в белом и белое в черном удобно, а если наоборот – белое в черном и черное в белом проходами белькантотелом.
<2005–2014>
***
Художницкие наклонности не часто выявлены:
женщина в платке, мужчина в юбке, ребенок на диване, диван на столе, стол на стульях, стулья в унитазе, унитаз в морской раковине, раковина в рукомойнике, рукомойник в облаках, облака в передряге, передряга на кухне, кухня в портфеле, портфель в руке, рука в руке, <…> на ветру, ветер внутри, тишина снаружи, снаружи двойники, тройники, четверяки, пятерики, шестерики и обратные танцы в глянцах, глянец снаружи, снаружи – внутри, недоделанность, броский бросок, самолюбование, себястойкость – не добежать, зубоскальство в маске – пестрое одеяло, одевание до неприличия в привычном своем, для глаза сглазу, не береди по факту – распространение, задушенный вариант, любовь в бесконечности, отражение в полупустом, одновременность выявления, охрана от случайностей, порядок и тишина шума, газели – все съели, перетаскивание поверхности – слон, игрушечный комплимент, необязательность свойства, наволочка успеха, дознание за дверью, за дверью – в стакане, стакан под юбкой, юбка в коридоре, коридор на улице, улица в кустах, кусты на стекле, стекло на бумаге, бумага ой, ей ей, невеста, невежда, жена, и прочие принадлежности, неохватность, очередь, чек, банк, ссуда и время, время в кармане, на стене на небе, внутри и снаружи или не время, а остановка, передвижение, время археолога, поэта, живописца, компьютера, переводчика, таксиста; нет времени у продавца и покупателя, нет времени у денег, и нет его у нас: катастрофа – или мы на эскалаторе или… пешком в будущее или на фортепьяне из колодца или заведомо выученные слова: впереди, позади, сбоку, о искры, зажигающиеся об один кремень, треволнения, восторги, страсти не по существу. Дневное время ошибка, утреннее – вприглядку, вечернее – обвал, ночное – обнаружение, толчея, факты без фактов, воображение издалека, пугливость натуры, скомканность билета, пропуска, с наплывом и расплывом искусственных дорог, мокрого асфальта и бледных отражений, пропусков и каньонов и прочих предметов исчезающих в вихре на свою поверхность, где что-то произрастает, происходит до удивления в формах входа.
<1995>
***
<…>
Время пришло, время ушло. Торопится, торопится, останавливается, оглядывается, поворачивается на другой виток и улетает вместе с нами, куда?
А вы зовете, здороваетесь и прощаетесь, но никак не перепрыгнуть, не сказать: здравствуйте! Вот я. Мы не встречались, но я слышал о вас, я из вас расту, на земле это, а у вас? – Все так же, как и всегда, в одной орбите в одном времени. А я принес вам подарки.
– Спасибо, положи на стол, а мы идем в лес по грибы. Спасибо вам за вас. До свиданья.
Все должно изменяться, и лето и осень – ритм, для кого-то короткий, для кого-то длинный. – Как взглянуть, – сказал человек с протяженными годами. – А мы думали, не успеем. Я всегда с вами, детки, – садитесь и слушайте.
– Был Иван Грозный, был Иван-царевич, был святой Иосиф, был другой Иосиф, была Мария и Маша была, была ночная Москва, и был ночной Петербург, был Новгород ясный и был Псков среди лесов, а в глубине леса… И птица была и лось зимовал и куница и дятел и орел и грибы откуда – никто не знает и муравьи откуда – никто не знает и пауки откуда – никто не знает и лес откуда – никто не знает и человек откуда – никто не знает и сон откуда – никто не знает и озеро вспоминает и река в заботах и ты, где ты?
<1994–2005>
Публикация Галины Блейх.
Сохранена авторская пунктуация.
Михаил Вайскопф: ГОСТИНИЦА. ХЕВРОН
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:40ГОСТИНИЦА
– Какую свиную отбивную ел я на Фаворской горе! – сказал портье. – Вспомнишь – плакать хочется. Слышь, солдат, в Иерусалиме нет, видать, таких ресторанов – у вас там сплошной кошер, никакой жизни, одни ортодоксы да госслужащие. А здесь, в Галилее, народ добрый, приветливый. Ты вот на меня посмотри.
Он стоял в проеме, как веселая кариатида, подпирая косяк мохнатой рукой; подмышки благоухали деодорантом. Лицо его, оживленное мелкой асимметрией – намек на флюс, легкое косоглазие, – гармонировало с фасадом этой маленькой гостиницы, правое крыло которой сдвигалось в галилейскую полумглу, поросшую кустами. Запах цветов смешивался с его деодорантом. Сумерки настигли меня в пути, ближайший Солдатский дом находился в часе езды отсюда, в Тверии, а где тут поймаешь попутку! Номер стоил шестьдесят шекелей, но портье (отставной старшина, уважавший армию) взял с меня двадцать, пообещав уладить это дело с хозяйкой.
– У нас тут постояльцы не чета тебе – солидные люди, – похвастался он, когда мы поднимались по темной лестнице. – На днях гостил профессор, археолог из Университета Афулы, за обедом столько всего нам наплел! Сказал, совсем неподалеку, в Кфар-Нахуме, Иисус ходил пешком по воде и ловил рыбу руками. А может, гои и врут. Слышь, солдат, оказывается, кого только в нашей Галилее не было – и финикийцы, и греки, и римляне, и хрен знает кто. Это еще до арабов было. Такую погань тут расковыряли, не поверишь – каменные херы, размером с огнетушитель, только без яиц. Весь край в развалинах – красота! Хочешь – любуйся ихней Венерой или богородицей, не хочешь, посети могилы праведников, благословенной памяти. Я тебе говорю, мы люди радушные, это тебе не ваш Иерусалим.
За что он так взъелся на мой город, я так и не понял. Наверху тоже было темно, сломался выключатель, а окно в конце коридора заслонял широкий стенной шкаф, стоявший спиной ко мне – прямо у двери в мой номер. Постель, покрытая свежим бельем, симулировала девственность. На стене светилась фотография начальника генштаба (суровый берет, задумчивые глаза, усы военного цвета), а напротив рекламно синел Кинерет в фате утреннего тумана. Торшер произрастал между креслом и письменным столом, пригодным для аграрных мемуаров. На столе пузырилась зеленая пластмассовая ваза с разномастной флорой.
Снаружи к дому сползались холмы, усаженные серебряными валунами, над которыми тяжело кружилось рваное галилейское небо с подтеками заката. С приземистой оливы взлетали вороны, а поодаль, сквозь мглу, нежно розовело иудино дерево. Все это я уже видел, видел в одном из прежних странствий – и увижу еще не раз.
Приняв душ, я погасил свет и лег на кровать, до пружинных судорог заезженную туристскими парочками. Почти сразу меня обступили зыбкие, бессюжетные сны – в них, ликуя, журчала вода, светившаяся изнутри каким-то кобальтовым свечением, пахла травой и влажными камнями – вероятно, смешанный эффект душа и плаката с Галилейским морем. Кто-то бедный и безликий окликал меня – но не по имени, а как-то иначе. Зов был тихий, тревожный, ночная душа спряталась от него в явь – вскоре я проснулся.
Ветер, задрав занавеску, наотмашь бил по окну, в конусе абажура плясала лампочка, и ее тени с явственным шуршанием носились по потолку, мешаясь с бликами истлевающей предрассветной луны. Простые киббуцные очи начальника штаба сверкали сухим пистолетным блеском, усы топорщились. По полу, разливая воду, катилась пластиковая ваза с припадочным громыханием.
А за стеной с озером сквозь шум струились странные и милые голоса. Казалось, переговаривались мать с дочерью, и дочь что-то торопливо и сбивчиво рассказывала, а та перебивала ее восклицаниями, – веселое недоумение, не может быть, неужели, – и обе изнемогали от смеха. Потом я услышал, как вода лилась там в кувшин – с таким звуком, будто кувшин был каменный, и в этой воде снова плескался и расходился со стеклянным звоном летучий смех, и девушка все болтала и смеялась, и все это походило на быстрый лепет маленького римского фонтана, выбрасывающего тонкие струи в каменный бассейн с бронзовыми львятами. Я совсем не различал слов, порой они напоминали мне греческий, иногда испанский или ладино, чуть-чуть итальянский, но все это было не то, какой-то другой язык, который я, быть может, слышал в детстве – но в каком, в каком детстве мог я его слышать? Только одно слово уловил я, и это было мое собственное имя, но прозвучало оно иначе, другое, забытое мною имя, беглый контур души. Я не сразу его опознал и не успел отозваться, имя прошелестело уже так тихо и невесомо, словно его назвали напоследок, как пароль, уходя от меня в неведомый легкий путь. А потом все смолкло, и затих ветер.
В окне я увидел торопливую киноварь зари, мельхиоровые камни громоздились на холмах, как черепа бессчетной родни, как светлые кости отринутых поколений, готовые пробудиться к текучей и беспечальной жизни. Под самым окном, на голос невидимой флейты, выступали гомеровские овцы, облезлые овцы цвета хаки. Комната уже успела восстановить свою безличную гармонию, вчерашняя ваза с цветами как ни в чем не бывало стояла на письменном столе. Генеральское лицо больше не отделялось от стены, и зазывно синел Кинерет.
Внизу в вестибюле завтракали портье и хозяйка, вялая женщина в потрепанной кофте со спелыми пуговицами. Они пили кофе, отставив мизинцы.
– Садись с нами, – сказал портье, подвигая ко мне баночку йогурта и тарелку с каким-то гербарием. Хозяйка налила кофе.
– Что это у вас там за постояльцы, какие-то женщины в последней комнате справа?
– Женщины? – портье озадаченно взглянул на хозяйку, которая слизывала простоквашу с указательного пальца. – Да нет там никого. И никого быть не может.
– Но ведь я слышал голоса…
– Господи, это ж надо, – вздохнула хозяйка, сдвинув слегка брови. – Не знаю, что ты там слышал, только там нет никакой комнаты. Твой номер, крайний, угловой. Не пойму, как таких чудиков на военную службу берут.
– Погоди, ты где, собственно, служишь, парень? – привстал со стула портье. – Где твоя база? В каких ты войсках?
Не ответив, я поднял рюкзак и вышел в галилейское небо, подбитое травой и камнями. Долгая, изнурительно долгая служба досталась мне, Бог весть, когда она кончится, но я не откажусь от нее, потому что не знаю большего счастья, чем с рюкзаком за плечами и в солдатских ботинках идти по Галилее.
1981
ХЕВРОН
Холод здесь был такой, что тело на ветру стягивало бетоном, а кости казались арматурой. По ночам мы карабкались в небо по приставной лестнице и старались отогреться в дощатой караульной будке на крыше Дома Романо. В ноги там утыкалась мощная электропечь, и ее багровые спирали высвечивали похвальбу: «Здесь в этом доте я сломал целку арабке. До чего горячая пизда!» Но будка сразу перегревалась, ботинки начинали дымиться, и тогда мы выскакивали на крышу, откуда нас норовил стряхнуть ветер, и спасало только ограждение из колючей проволоки. Муэдзин на ближней мечети стонал: «Аллау-акбар!», узловатые кошки творили намаз или, потягиваясь, скребли жестяными когтями по небу. Ветер все сдувал и сдувал толстую мусульманскую луну, но та перекатывалась на новое место. Порой бубнил дождь, тоже отдававший кошатиной, и улица наливалась помойным мраком. На небе с грохотом переставляли утварь, кто-то бил в Хеврон огненным ломом, ворочая камни, – а на рассвете город приходилось отыскивать заново. Деревья группировались заново, вчерашняя улица вползала на какой-то новый, сегодняшний холм, и до казармы я добирался наощупь.
Этот сарай прятался на месте бывшего автовокзала и вместе с призраками автобусов кочевал по городу, к утру возвращаясь домой. Там мы пили кофе, отсюда сквозь ветер перебегали в столовую, если удавалось ее найти, а потом спали, пока нас не будил дежурный сержант Мордехай, которого мы прозвали Ангелом смерти. Он собрал четверых: Йосефа – домовитого столяра из Бат-Яма, кибуцника Давида, Авраама – очень начитанного студента из Южной Африки и меня. Сначала был еще с нами рижанин Боря Зиммер, бывший чемпион Латвии по боксу, но его перевели в комендатуру, и там он расхаживал по каменному двору, таращась в небо, расквадраченное колючей проволокой, или на узкие окна тюремных камер. Иногда оттуда доносилось вой и урчанье – арабы топтали стукача или наоборот, жарко любили друг друга.
Мы узнали, что Ангел смерти давно приятельствует с Йосефом, они когда-то вместе служили. В первый же день Ангел показал ему рынок, где Йоси всего за десятку купил роскошные электронные часы величиной с пепельницу, на которых было написано «Дженерал Моторс».
Мне не везло: Ангел всегда забирал его с собой на дежурство в лучшую будку Хеврона. Она стояла на крыше арабской виллы и сама у нас так и называлась – «Вилла». В ней было просторно и тепло, а не жарко, хотя ее согревали сразу две печки. Наружу выходили только для осмотра, а остальное время глазели в бинокли и тешились транзистором. Внизу жила богатая, пожилая и многодетная арабская чета, истовые мусульмане. Их распирало мнимым радушием, они угощали солдат отличным кофе – обычно присылали наверх старшего сына, угреватого балбеса, или семнадцатилетнюю дочь, рыжеволосую и шахерезадую. В казарму часто заглядывали Валид и Мансур, жандармы-друзы. Бросив свои дубинки на кровать, они угощались кофе. С Йоси они спорили о политике. Йоси голосовал за Ликуд, а они предпочитали левых социалистов или, на худой конец, Маарах.
– Во-первых, – говорил Валид, – я, как национальное меньшинство, стою за равноправие. Потому мне ближе Маарах. Мы, друзы, – те же арабы. Какая разница?
– А во-вторых, – уточнял Мансур, – при Маарахе был порядок, не то что сейчас. Теперь, при Ликуде, арабы делают что хотят, ты в него и стрельнуть не моги, если он на тебя нападет безоружный. А поди разбери в темноте, чем в тебя этот засранец кидает – камнем или гранатой. В воздух выстрелишь, и то тебя по судам затаскают. А как было при Маарахе? Вот, в 75-м тут арабы напали на людей, одной девочке глаз вырезали стеклом. Пока следователи еще не прикатили, мы их так уделали, что вспомнить приятно. Помню, из этой шоблы парень лет семнадцати был. Имя не называет. Вот, так, говорит, и запишите: «Я, – говорит, – король Хеврона». Был у нас в отделении один еврей, но крутой. Поставили мы араба раком, взял он «узи» и смазал его пару раз прикладом по яйцам, так что у того из штанов потекло. «Ну вот, – говорит, – теперь ты королева Хеврона».
– А вообще-то, – встревал Валид, – арабы вас, евреев, да еще резервистов, ни хрена не уважают. Зато как приедет один джип с друзами, так все эти вонючки ноги в руки. С вас тут на сборах какой спрос? А на нас ответственность.
Впрочем, сильнее, чем арабов, ненавидели мы еврейских поселенцев за то, что нас поставили их охранять. Их было меньше, чем нас, солдат, и, по-моему, они и так ни черта не боялись. Они селились в тех заброшенных домах, где до 1929-го жили другие евреи, такие же набожные и многочадные. Дети нынешних, чумазые, с закрученными проволочными пейсами, носились по всему Хеврону и были самой подвижной частью его и без того бродячего ландшафта.
Как бы ни ворочался и не расползался по ночам этот город, вилла всегда оставалась напротив нашей будки. Оттуда, из света, неслась тошнючая музыка, которую не могли заглушить даже кошки со своим муэдзином. Однажды, когда на заре был такой ветер, что приходилось удерживать себя за шиворот утепленного комбинезона, я увидел, как возле их дота, мощно ступая босыми ногами по железной крыше, появилась девушка с ведром и полотенцем. Она окатила голову водой из ведра. Волосы толстой рыжей струей потянулись по ветру. Она вытерла их, повернулась и ушла, громыхая ведром.
Тогда, закинув автомат за спину, я спустился по приставной лестнице и постучался в зарешеченную железную дверь. Там жила семья переселенцев из Бруклина, которая вставала очень рано. Мне открыла молодая хозяйка, в грязном переднике и платке, сдвинутом на левое ухо.
– С добрым утром, сударыня, – сказал я. – Я продрог, как собака. Не могли бы вы угостить меня чашкой кофе?
Из коридорных глубин несло старым бельем и жареной рыбой, в проеме мелькали бледные дети. Один из них, сопя, смотрел на меня без всякого любопытства. Кофе пах рыбой, пироги – подштанниками.
Хоть мы их охраняли, эти ортодоксы не жаловали нас, сионистов, да и все наше безбожное государство. Просто они хотели жить в святом Хевроне, у гробницы патриарха, в первой столице еврейского царства.
Другие, из «Стальной ермолки», нагловатые веселые парни с талмудом и автоматами, угощали нас куда охотнее. Они жили в ешиве при синагоге Праотца нашего Авраама. Заглядывая в окна, мы видели, как ихний раввин доставал огромный фолиант и со стуком вытряхивал из него на стол буквы, а остальные тут же кидались на них, переставляя по-своему. Но крыша этого праотца была самым гнусным местом во всем городе. Вообще-то она примыкала к помойке – но по утрам помойка прикидывалась рынком, а крысы – торговцами, и, наконец, внизу медленно расходились бледно-зеленые железные двери арабского кафе, и ласковый старик-левша, обутый в ботинки на босу ногу, выносил немытые стаканчики с кофе на латунном подносе.
Но до этого нужно было прожить ночь. В тамошней будке не было электричества, если, конечно, не считать полевого телефона, одетого в хаки, так что мы разводили на крыше костры из рыночных досок и пытались согреться водкой.
– Водка не поможет, – сказал в первую же ночь Давид, кибуцник. – Я зимой рыбачу на Кинерете, так чего мы только не натягиваем – и по три свитера, и куртку, и сапоги до подмышек, все равно холодно. А от выпивки только хуже. Сначала тепло, а потом еще больше мерзнешь. Но ты же из России, ты-то чего зябнешь?
– Здесь ветер, – бормотал я, прихлебывая водку из горлышка. – Ветер.
Из тьмы впереди смутно выпирала кладбищенская гора, и мусульманские надгробья на ней то зарывались в землю, то выползали из нее, то разрастались прямо в дома. Мы были совсем на виду, и оттуда, с кладбища, нас ничего не стоило подстрелить, если б у мертвецов было оружие. А позади нас громоздились разрушенные здания, где евреи жили до 29-го года, когда арабы вырезали шестьдесят девять человек. Нынешние поселенцы еще не успели эти дома отстроить, а арабы туда не въезжали, потому что боялись привидений. Иногда в каменных квадратах бывших окон зажигался свет, где-то лязгали двери, давно сорванные с петель, мелькали тени в широкополых шляпах, и можно было бы подняться по лестницам без ступеней, отогреться у хозяев в эту нескончаемую ночь, попросить у них чаю, но я не мог покинуть свой пост.
Как-то раз, когда опять дождило, невысоко над собой я увидел пожилого, усатого ангела в синей спецовке с поблекшей надписью «Фирма “Тадиран”». Выпростав руку из-под мокрого крыла, он приколачивал к небу звезду, но промахнулся, тяпнул себя по пальцу, и звезда шлепнулась в лужу, спугнув крысу. А потом на крышу, планируя, спустилось серое перо, вроде куриного.
Днем, когда к нам присоединялся Йоси, мы вчетвером патрулировали Хеврон, обходя дозором Сугубую пещеру – гробницу Авраама, Яакова, Ицхака и Сарры. Только она та пещера одна не трогалась с места, потому что остальной город вращался вокруг нее – хоть Ави и уверял, будто по данным археологии гробница и роща Мамре находились где-то совсем в другом месте. Внутри, на верхнем этаже за решетками, стояли каменные глыбы, покрытые зелеными коврами с арабскими вензелями – эти камни были надгробиями патриархов, но сами могилы находились внизу, в яме, куда арабы нас, евреев, не пускали.
А вы знаете, что здесь похоронены еще Адам и Ева? – спросил нас раввин из ешивы, когда мы, устав от кружения, курили у стены гробницы.
А где похоронен змей? – сухо спросил Давид. Но раввин не обиделся, а предложил нам надеть тфиллин, и черные ремни стянули наше тело, не давая ему распасться.
Мы спотыкались о камни, их створки внезапно расходились, и оттуда, задев нас плечом, выскакивал небритый араб в кефии. А порой камни собирались в воздухе, и тогда он бил нас гранитом. Мы отступали к стенам, заряжая автоматы резиновыми пулями, но тут приезжал Валид с Мансуром, и камни с воем разбегались по местам. Здесь все было поддельным, даже бродячие деревья – приглядевшись, я замечал цементный ствол, проступавший из-под коры, а из веток выглядывали ржавые прутья. Примелькавшийся переулок вдруг свертывался в мусорную свалку, а та, что напротив, выпирала улицей, да такой крутой, что автобусы поднимались на задние ноги и шли стоймя. Из любого в нас могли шмякнуть гранатой, но однажды, совсем наоборот, нам осторожно помахали ручкой две старшеклассницы в серых мусульманских робах.
Казалось, что времени здесь не было, оно просто свернулось в булыжник и заснуло, но тут мы узнали, что ночь на исходе.
– Еще аж целых два дня осталось, – сказал Йоси со вздохом. Он держал на коленях ботинок, заколачивая в подошву гвоздь часами от «Дженерал Моторс». – Еще два дня в этом поганом городе. Жулик на жулике сидит. А я тут влип в такую историю, в такую историю! На этой самой вилле в меня втюрилась ихняя дочка. Сначала она мне кофе носила, а потом постепенно в меня влюбилась.
– Чего ты врешь? – укоризненно сказал Ави. – Зачем ты на нее наговариваешь?
– На кой мне врать-то? Да я от нее сегодня получил письмо — в бутылке из-под кока-колы, чтобы предки не засекли.
– А что она пишет, – спросил я.
– Да хрен ее знает. По-английски она не врубается, а письмо по-арабски. Слышь, Валид, будь другом, переведи, а?
Валид протянул чашку Мансуру.
– Допей, – сказал он. – Я больше не хочу. Это моча, а не кофе.
Потом вытер руки о штаны и разгладил листок.
«Дорогой Юсуф, я полюбила тебя с первого взгляда. Но никто не должен об этом знать. Иначе меня зарежет мой старший брат. Мне здесь очень плохо. Дорогой Юсуф, умоляю тебя, забери меня отсюда и спрячь где-нибудь. Я хочу стать твоей женой. Твоя Мариам».
– Она что, совсем стебанутая? – поразился Йоси. – Куда я ее дену? У меня жена и трое детей. Мне 34 года. Что она, не может найти кого помоложе?
– Хоть красивая? – полюбопытствовал Мансур.
– Баба классная. И сиськи, и зеленые глаза. Почти блондинка. У ейного отца два магазина. Но мне-то что с ней делать? Да еще арабка. У меня семейная жизнь, дети. Ради них здоровье портишь, клиентов накалываешь. Как говорится, для детей будешь срать кубиками. Я даже не очень блядую. Зачем искать на жопу приключений?
– Здесь и не поблядуешь, – сказал Валид. – Это ж мусульманский город. Хочешь блядовать, езжай в Вифлеем. Там христианки, они, в общем, дают. А этой твоей Мариам просто приспичило трахаться. Не хочешь сам, познакомь меня с ней. Мы ее сразу утешим.
– Нет, это не по-людски, – огорчился Йоси. – Цинизм какой. Все-таки девушка влюбилась в меня, неважно, что арабка, зачем же ей жизнь портить. И потом, брат или отец ее за это зарежут.
– А так они тебя зарежут, – возразил Валид, – потому что ты еврей. А нас они не тронут.
– А во-вторых, – сказал Мансур, – надо ж совесть иметь. Что мы зря трудились, переводили? Не хочешь сам, уступи людям.
– Нет, – отмахнулся Йоси. – Я лучше напишу ответ. Это деликатное дело, я обижать ее не хочу. Я напишу, что для ее же счастья не могу увозить ее из родного дома, потому что куда ж мне ее деть.
– Хочешь, чтоб мы написали по-арабски? – предложил Мансур.
– Нет, тогда она сразу догадается, что в дело замешаны другие люди. Ави, будь другом, напиши по-английски, она поймет.
– Фрайер, – вздохнул Валид.
Ави отложил толстую книгу, которую он читал все эти дни. Я впервые увидел заголовок. Это было англо-ивритский словарь.
– Давай бумагу, – сказал он.
Ночью я вновь плясал от холода на крыше дома Романо. Сквозь облака бодались минареты, мерцала мельхиоровая луна. На вилле все так же пылал свет, но музыки не было. По крыше, шурша прохудившимися башмаками, рассеянно слонялся Йоси, видно, он совсем не чувствовал стужи. Правда, и ветер улегся.
Утром, когда Ангел смерти отовсюду собрал нас и отвел в казарму, Йоси буркнул:
– Ну вот, чуяло мое сердце. Обиделась. Прочла и с тех пор не разговаривает. Ни слова. Хоть бы взглянула в мою сторону… Знаешь что, Михаэль, будь другом, иди-ка ты завтра туда без меня. Хоть в дневную смену, да все же хоть разок отдохнешь на вилле. Ты уж извини, мне неудобно, что раньше не получалось.
Весь следующий день я провел на вилле. В будке на стене была распята 10-сантиметровая бабочка. Ангел смерти читал газету и гасил окурки в консервной банке. Радио рассуждало о политике. Еще утром старик-хозяин принес кофе на подносе. Он обвел меня добрым, лучистым взглядом. Я долго жил в Эстонии и знаю этот взгляд. Да-да, я старый, больной человек. У меня семья, доходы. И если я вас зарежу, не на кого будет оставить хозяйство, а в я тюрьме захвораю и помру. Потом на крышу поднялась Мариам. У нее были зеленые глаза, длинные, рыжей воды, волосы. Но кожа была плохая, обычная арабская кожа, толстая и нечистая, как мостовая. Спускаясь по лестнице, она напевала, ритмично встряхивая тяжелым крупом. На третий раз она спросила меня по-английски, как меня зовут, и уже перед самым нашим уходом, когда у нас кончилось курево, принесла из лавки пачку сигарет и арабские спички с тремя коронами.
– Смотри-ка, – сказал мне Ави, когда мы паковали вещи, и казарма на глазах угасала. – В «Маариве» какой-то профессор пишет, что хевронские арабы в антропологическом отношении очень близки к евреям периода Иудейской войны. Это ж надо, какая пакость!
Он пустился было в рассуждения, но тут появился Боря Зиммер. Он влетел, оттолкнув в дверях Валида, взмахнул забинтованной рукой, а другой, неповрежденной, достал бутылку и рявкнул:
– Мишка, давай выпьем! Последний день!
– Что у тебя с рукой?
– Вот черт, незадача, – омрачился Зиммер. – Понимаешь, мы тут сцапали целую кодлу этих, которые камни бросают и все такое. А уже в комендатуре один вырвался и бежать, да прямо на меня!
– Ну?
– Ну я ему встречный и врезал. Только по челюсти побоялся – еще сломаю, думаю, хлопот не оберешься, компенсацию придется платить. Дал ему в лоб, а он с копыт. Вот кулак и опух. Ну и хрен с ним. – И добавил на иврите, обращаясь к Йоси и Валиду: – Ничего, рука-то правая. А я все равно левша. Как тот араб в кафе у Синагоги Авраама.
– С чего это ты взял, что он левша? – удивился Валид.
– Да он кофе всегда левой рукой подает.
И тут Валид засмеялся. Он смеялся хрипло, с гавканьем и хрюканьем, смеялся гортанно, словно что-то рассказывал по-арабски, а отсмеявшись, сказал:
– Никакой он не левша. Мне он подает кофе всегда правой рукой. А вам всегда левой. Потому что левую руку арабы презирают, они ею подтираются.
– Ну и город, – огорчился Йоси.
– А во-вторых, – послышалось за дверью, – я ему так прямо и сказал: служи я в Рамалле, я бы уж давно стал прапором (тут дверь отворилась, и вошел Мансур с Ангелом смерти), а не сидел бы еще в сержантах в этом вашем Хевроне.
– Ну и город, – сказал ему Зиммер. Здоровой рукой он достал пачку сигарет, я поднес ему спичку.
– Слышь, Мансур, – я протянул ему скомканный листок из спичечного коробка, – не можешь ли перевести?
– Погоди, – сказал он, – знакомый почерк. – Ага, «Дорогой Михаэль, я полюбила тебя с первого взгляда. Но никто не должен об этом знать. Иначе меня зарежет мой старший брат…»
1988
Елена Толстая: ACHT UND ACHTZIG PROFESSOREN
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:09ПРОЕКТ
Впечатлений было слишком много, и некоторые вещи поражали. Например, в ранние семидесятые, когда мы только что приехали в Израиль, еще прощупывался немецкий костяк тутошней жизни. Нам понадобился детский врач, и университетские друзья-старожилы отвезли нас к доктору Энгелю, немецкому ангелу лет восьмидесяти шести-семи-восьми. Он жил в самом старом и самом уютном особнячке в Рехавии, старом и уютном светском районе города Иерусалима. В старой уютной Рехавии он жил в самом старом и самом уютном домике, доски ворот все были щербатые, с обгрызенными до круглоты краями – непонятно, на чем там держалась зеленая краска – и ржавыми железными ставнями на арочных окнах. Но дом держался, и сам доктор держался. Он любил русскую литературу, однако Толстой и Достоевский были на его салтык еще новомодные и спорные; а вот Тургенев – это да. Он прописал микстуру на заказ и послал нас в старинную аптеку «Таджа» за угол налево, но мы смекнули, что, если откинуть британский мандат и его жесткие фонетические правила, первоначальное имя деда-основателя должно быть Тагер, и так оно и оказалось. Дед оказался такой же винтажный и при этом такой же крепкий, как д-р Энгель. Аптека сияла старинными шкафчиками и баночками – что твой Ферейн! Но мы сглазили, и Ангел – нет, не покинул эту юдоль, просто ушел на много раз заслуженный-перезаслуженный отдых. Но нас при этом не бросил, а оставил в наследство своей младшей коллеге и сотруднице д-ру Эден, всего-то лет восьмидесяти пяти от роду, но еще более сухонькой, улыбчатой и авторитетной, и она выписывала длинные рецепты: глаголы по-немецки, существительные по-латыни, и старый Тагер готовил старомодные домодельные декохты в коричневых бутылочках. Фюнф-унд-цванцихь Тропфен[2]. Что проверено, то проверено. Вот так в университете тогда понимали настоящую медицину.
Нам нравилось общение с израильтянами: и люди были очень симпатичные, и квартиры у них были прекрасные, все похожие – например, лампы они делали домодельные из простых арабских глиняных кувшинов с картонными промасленными абажурами, как у всех наших родных и знакомых в Питере. На стенах обычно графика, так себе. Угощали нас вкусными штучками, однако никто ничего не понимал, наших рассказов про Россию не слушал: а мы все пытались объяснить, что было там не столь прекрасно, как их, наверно, учили в школе, что вон, не зря же триста тысяч народу поднялось рвать когти. Рассказывали, как сажали за подпольные кружки, которых на самом деле не было (в выпускном классе школы я сама чуть не загремела – слава Богу, делу не дали хода – видите ли, мы, четыре девочки, собирались и книги читали, да еще и обсуждали), как евреев и даже половинок не брали в вузы, как нельзя было устроиться на работу. А потом как людей арестовывали за найденный экземпляр Библии, за преподавание иврита, как подавшие на выезд годами сидели без работы, как требовали разрешение родителей на выезд взрослых детей, и что грозило родителям, которые такое разрешение давали. Но израильтяне не очень нам верили. Потому что налицо были сами мы. И глядя на нас, они спрашивали себя: ну как же это можно, при таких ограничениях, как вот они говорят, они-то сами получили все-таки – и иностранные языки, и высшее образование, и аспирантуру, и диссертацию, а кому не дали защититься, все-таки напечатали же монографию, и то, и се… что-то тут не то! И каждый вновь убеждался в том, что и так знал в сороковых и пятидесятых, когда здесь был сталинизм и все русское попробуй не полюби, и когда еще даже на заседаниях правительства для простоты переходили на русский:
Я другой такой страны не знаю… Польюшко-полье… Ах барин, барин, милый барин… Каа! – – линка, малинка, малинка моя!
Кто был более открыт, так это очень люди очень старые – тем и объяснять ничего не нужно было ни про советскую власть, ни про то, как сохранять культуру вопреки ей. У них зато и картинки на стене были сильно лучше.
Меня тут сразу записали в аспирантуру на какую-то новую кафедру. Жизнь удалась: в Москве ни о какой аспирантуре речи не было и не могло быть. Оба молодых профессора, которые меня взяли, русским владели как родным. Ну почти. Один лингвист, другой литературовед. Преподает и Бодлера, и метрику, и авангард на всех языках, и идишскую поэзию, и Джойса. Из Вильны (так здесь традиционно назывался тот город по-русски и по-еврейски) они эвакуировались от немцев в Сибирь, это было ужасно, но жизнь спасли. А после войны вернулись и сразу сюда. Приехал мальчишкой прямо на Войну за независимость. Очень он мне понравился. Рыжий, с кривым носом – прям Депардье. Вот ему про советскую власть после броска в Сибирь и обратно в старшем школьном возрасте ничего объяснять не надо было. Тем не менее он любил Маяковского и Хлебникова. Ну ладно, Хлебников. Но Маяковский? Мы-то с Маяковского начинали, лет в четырнадцать, первый том – «Облако» и т.д. – тогдашняя альтернатива советской казенщине. Но у нас этот благонамеренный вкус там и остался – в конце пятидесятых, вместе с верой в доброго Хрущева, который тогда уже разорял крестьян и закрывал церкви. А тут Маяковский навек. Левой!
Звали его Муки. Но не муки слова, а уменьшительно-ласкательно, от имени Моше. А второй босс – он с нами меньше имел дела – велел звать его Рони. От слова Ахарон.
Оба отучились в Еврейском университете у Леи Гольдберг (сестра, между прочим, нашего когда-то любимого Анатолия Максимовича Гольдберга с Би-би-си, она же местная Ахматова). Оба аспирантуру – и самую лучшую – закончили в Штатах. Оба начали преподавать в альма матер, но не спелись с традиционно англоцентричными «новыми критиками», которые там все еще правили бал. (Это, как потом я поняла, типичная здесь черта – некоторая застойность, полное господство одной группы до ее вымирания. Была и есть.) А у них, молодых-то, на уме был французский структурализм да русский формализм. И оба перешли в другой университет и там основали кафедру теории. И вот туда-то они набирали аспирантов. Все новое, ура!
Я говорю: – Муки, а вот есть еще один очень хороший молодой человек. (Мы в Москве ходили в один литературный кружок.) Он вообще-то математик и любит точные методы в литературе. – Ну пусть позвонит.
Потом говорит – А я его не взял. – Почему? – Вот ты знаешь, что писать. А его надо учить, заниматься с ним. Я понимаю, что он хороший. Но мне это не нужно.
Вот такие были нюансы.
Пришли мы (а нас было двое таких – новых аспиранток, вторая была по английской литературе) в Гильман – так наше здание называлось. И видим – вся профессура распаковывает коробки. Говорят нам поучительно: «Мы тут на вас получили большие деньги из министерства абсорбции. И вот – купили на них оборудование для кафедры». Нам полагалось, наверно, гордиться, что нам доверили такой секрет. Инициация, с обязательным унижением?
К нам относились хорошо. Помогали и все такое. Давали деньги, чтоб издать книжку, даже на свой журнал. Но была одна закавыка. Потому что русских – тех евреев, полу- и четверть- евреев и вовсе не евреев, которые приехали в эти первые годы, все эти молодые – да и не столь молодые – израильтяне совершенно не понимали и все более на это свое непонимание обижались. Уже тогда. Причем все. Ивритяне (в универе они были в основном левые социалисты) – потому что мы-то были – ой-ей-ей! Умеренные либералы, в универе они были в основном англоязычные – потому что мы-то были в их глазах неучами, ведь для них существовала только одна культура, и она была на английском языке, плюс немножечко на французском, чуточку на испанском, ну ладно – немножко Толстого, а то неудобняк, все-таки писали – не гуляли; в общем, смотри «Канон» Хэролда Блума (см. также ниже, про Дьюи). Остальной мир, а значит, и мы тоже, – дикари. И потом, мы только говорили, что мы либералы, но нам было совершенно наплевать на арабов. Арабам, на наш свежий взгляд, жилось здесь получше, чем «марокканцам» – то есть евреям из Марокко.
За вычетом уже указанных групп, получалось, что легче всего было нам общаться с бывшими европейцами, из числа тех, кто не был социалист, то есть что-то про это понимал – что означало Германию, Францию, даже Англию, а в основном Восточную Европу. (А уж кто из Восточной Европы приехал и продолжал быть коммунистом – вот это было по-настоящему страшно. Такие здесь выходили в начальники. Ничего человеческого.)
Так вот, надо было ихний, ивритянский, разговор на русские темы всячески поддержать. Уже не о политике, Бог с ней, политикой, им уже ясно стало, что ежели кто надеялся, что вот приедут, наконец Мишка, Гришка и Володья и, горя идеей, обновят здесь жизнь – вольются в киббуцы, поставят несбыточные цели, поведут за собой – под гармошку: «А ну-ка девицы, а ну красавицы» – то надеялся он совершенно зря. Приехали Григорий Михайлович, Михаил Григорьевич и вообще Владимир Иваныч, еврей по матери. От одного слова «киббуц» падали в обморок. Григорий Мих. привез Баха, Михаил Григ. – Карлебаха, а Влад. Ив. – Брассанса. Г.М. устроился в военной промышленности, М.Г. преподавал сопромат, а В.И. заделался крутым хасидом и, на законных уже основаниях, буйным выпивохой, отрастив невероятную шевелюру, переходящую в небывалые пейсы, переходящие в неправдоподобную бороду. И все надежды на девиц с косичками, в сарафанах тоже были напрасные – русские красавицы сарафаны больше не носили, а носили брючные костюмы, волосы модно стригли, иврит взяли измором и влились в среднее управленческое звено.
Так что у местных коллег речь теперь шла о том, какие эти русские тупые, безграмотные, лживые, а самое главное – тоталитарные, ужас! Каждый сам себе маленький Сталин. Теперь любой разговор у них, о чем ни начнись, почему-то на это сбивался. В общем получалось так, что мы да, вообще-то так считаем, но вот для вас лично делаем исключение. Но зато и вы должны нас в этом поддержать, что все остальные русские – которые сюда приехали – это полный атас. Это нас смущало. Получалось, что в ответ на это ихнее исключительное отношение мы должны были разоружиться перед партией, сделать «ласточку» и признать, что ничего хорошего из наших краев по определению появиться не может. Инициация с обязательным самопогрызанием? Это уже тогда, в семидесятых, а уж что было в девяностых – мама не горюй!
Там работала одна очень симпатичная тетенька из какой-то именитой семьи, бывшей когда-то русскоязычной. Она даже помнила лермонтовскую колыбельную, с помощью которой ее укачивали! Тихо смотрит месяц ясный! Но и она нас понять не могла. – Там же у вас в России плохо? – Плохо. – Так зачем тебе далось все это русское? Я говорила ей: – У каждого человека, как у ракеты, своя траектория. А она мне: – Да брось все это! Новая страна, новое все. Делай диссер по теории, английский у тебя отличный.
А один журналист, так вовсе откровенно сказал: – Брось, Элена, все это и иди к нам!
Я подумала: «К нам?» То есть: есть «мы» и есть «вы»? Вот прямо так?
А я так не хотела. Я ему сказала: – Зачем я к вам пойду? У вас же все есть. Новая страна, культура с иголочки, язык свой чудесный – работай не хочу! А у нас-то нет ничего…
И конечно, мы, дураки, не понимали их совсем. По-ихнему, нам надо было все старое из себя вытравить: удариться об землю и обернуться жгучими брюнетами, молчаливыми и простыми, и чтоб иврит был зашибись. А держаться за свое бывшее – это было фи. Да еще его им навязывать. Как мы пытались делать. На своем дырявом иврите. – А с другой стороны: что бы мы делали в ихней культуре? По определению на технических ролях бы оставались.
И даже те из них, которые в русских делах понимали, не совпадали с нами ни в чем. Русские все верили в Пастернака, а некоторые и в Мандельштама. Один знакомый московский мальчик лет шести так и говорил: «Мамдельштам и Папстернак». А вот им наш Пастернак был никак, «Живаго» поразил, главным образом, антисемитизмом, а Мандельштам – это было не то, не то, не авангард! А хуже всего Набоков. Этого вообще ненавидели. Speak, Memory? Какая такая память? Ты поговори у меня! Эмигрантов здесь презирали.
И не просто так они требовали от нас отказа от своего. Главное-то про нас они прекрасно поняли. Что мы хотели что-то такое надышать. Вокруг русских текстов, которые нам открывались, которые мы пытались по-настоящему прочесть и понять. Окружить их благоговением, как высшие ценности. Что ж еще оставалось-то? – Ничего же другого не было. Нас понять можно.
Но и их понять можно. Этот наш проект – культивировать здесь другой круг священных текстов, на другом языке, с дальним прицелом на другую страну или вообще ни на какую страну – а так, под этим флагом воздвигнуть некую общность типа диаспоры – как он мог еще восприниматься? Ну, во-первых как плагиат еврейской модели. А во-вторых, конечно, как враждебный. Вроде для них мы были такой кукушонок, подсаженный в гнездо типа иволги.
И вот сам декан позвал нас в гости, и я спросила его – а вот не собираются ли они случайно открыть у себя в университете какую-нибудь русскую программу? Он ответил честно и прямо: ничего русского в нашем университете не будет. Никогда.
В общем, эта тетенька с кафедры была права, полностью права, когда советовала выбрать другую тему! Идиллия длилась год. Потом выяснилось, что диссертацию мою не разрешают. Потому что я начала писать ее по-русски. Ну ладно, подумаешь, напишу то же самое по-английски! – Так нет же. Босс мой решил принципиально требовать, чтоб филологические диссертации разрешали писать на языке предмета. А власти университетские с ним сразу на официальную ногу – нет, вот у нас же есть правило. Писать филологические диссертации можно либо на иврите, либо по-английски. Так он с начальством бодался лет семь. Мне эта история осточертела гораздо раньше. У меня-то все было давно готово, и даже успели выйти пять статей. Я просто перевелась в другую аспирантуру в другом университете, где этих ограничений не было, и в течение года спокойно получила свою степень.
А спустя еще лет семь такое разрешение пробили и там. Пользуясь, как тараном, уже не русской, а испанской диссертацией какой-то аргентинки. Аргентинцы были левей некуда и воспринимались израильтянами как социально близкие. Так что на этот раз пробить было легче.
В конце концов у меня все вышло. Правда, оказалось, что я, дурища, написала диссер по почти несуществующей специальности. Руслит! Другая аспирантка, писавшая по английской, давно профессорствовала. А я все еще маялась на внештатной полставке.
И уже отношение моих боссов ко мне начало меняться. В их разговорах со мной появилась юмористическая тональность. И оттенок некоторой усталости от меня. Угадывалась интенция несколько меня подсократить.
На одном кафедральном семинаре я разглядела новое лицо. Это была средних лет женщина. У нее была потрясающая шапка черных волос, ошеломительная кремовая шелковая блуза и сногсшибательные антикварные бусы. Но вот руки ее – руки сильно дрожали. Она через что-то недавно прошла – или не очень-то прошла? Наши боссы разговаривали с ней тоном привычно раздраженным и насмешливым. Меня потряс этот тон. Я подумала – наверно, она раньше была им равная. А потом перестала быть – может, чья-то брошенная жена. И наверно, она давно им надоела, напоминая о своем бывшем равенстве, чего-то требуя. И поэтому они не забывали ее опускать, каждой иронической ноткой, каждым словом, которое у них как бы изначально было закавычено. Ужасно мне не понравились мои начальники в этом эпизоде. А больше всего мне не понравилось то, что я этот тон узнала: ведь так же они говорили теперь и со мной. А самое главное – в свете всего этого мне ужасно не понравилась моя собственная ситуация. Вдруг ясно стало, что и мне каши с ними не сварить. И действительно, вскоре мне сказали, что вот, я уже получила свою степень, и мое место нужно для следующего аспиранта. И с будущего года я уволена. Общий пламенный привет.
Так у меня в том университете все и кончилось. И они ничего так и не открыли русского, даже двадцать лет спустя, когда приехал русский миллион, когда на какие-то случайные русские курсы набивалось по пятьдесят человек новоприбывших студентов. Много лет спустя я спросила одну ихнюю администраторшу, почему? И она сказала мне очень странную вещь: «Чего ты хочешь? Чтоб мы – вроде вас – начали учить олим и детей олим?» — «Что, и во втором поколении они остаются у вас на подозрении?» — спросила я, она смешалась, поняла, что проговорилась, забормотала что-то невразумительное. Я спросила ее начальницу, и та сказала то же самое: «Нам не нравятся ваши студенты. У них нет широких интеллектуальных горизонтов. Они приходят в университет только затем, чтобы получить степень и продвинуться в обществе. Пусть они подождут. Пусть их дети придут в университеты, и тогда мы откроем русское отделение».
Представьте себе русский университет 1860-х годов, куда в лапоточках пришел поступать верзила-семинарист, или сын дворянина-однодворца в смазных сапогах, или еврей на рыбьем меху. Посмел бы кто-нибудь им сказать, что они нежелательны! Не ради аристократического интеллектуального любопытства они прут в университет, это ясно, а чтобы выбиться в люди. Нет, в вольные шестидесятые такое было бы немыслимо. Перед нами нечто, скорее похожее на позорный циркуляр о кухаркиных детях, изданный в России в 1880-х: в гимназии не рекомендовалось принимать детей из низших сословий. Как израильская университетская интеллигенция оказалась в такой убогой роли? Идея, понятно, состояла в том, чтоб закрепить и за вторым поколением подчиненное состояние. Чтобы никогда и ни под каким видом они бы не смогли соперничать с сынками тель-авивской знати.
(Дети этого самого русского миллиона были первокурсники, еле кончившие здесь школу, из семей, еле тянущих олимовскую лямку, жизнь их была бы беспросветная – так они мне говорили, я тогда уже опять преподавала, только по-русски, в другом месте. Так вот, им очень полезно было ощутить, что ты не просто так, с помойки, что у тебя есть за душой и Капитанская дочка, и Наташа с Пьером, и смешной и трогательный Степан Трофимович. И Петербург Белого, и Петроград Мандельштама. И за всем за этим один закон – игра на повышение. Ставка на высшее в человеке. И этим молодым и бесприютным это помогало здесь держаться.)
Где я преподавала? Одна кафедра, одна, отдельно взятая, все же создана была. Пусть и в другом городе, но была. Ее создала когда-то та самая Леа Гольдберг. Которая здесь когда-то перевела на иврит чуть ни всю русскую детскую литературу. Создала типа впрок. И вот Россия приоткрылась наконец, появились первые русские ученые – вначале это были ну три, ну пять человек, по всем специальностям ну дюжины две – и их в первый момент от обалдения взяли в штат.
Секретарша декана Лили со всей душой кинулась помогать новоприбывшим. Это была модная и изысканная европейская дама. Двадцать лет тому она была супер-пупер-тайным агентом в Европе – помогала переправлять еврейскую молодежь в Израиль то ли из Венгрии в пятьдесят шестом, то ли из Польши во время Гомулки. И за эту свою в высшей степени эффективную деятельность получила от правительства потрясающую комнату на крыше в самом центре, величиною в восемь квадратных метров. Маловато, но зато у нее была своя крыша, куда в теплое время года (а оно практически все время) можно было звать гостей. Лили взяла под свое крыло разнокалиберную компанию прибывших в ранние семидесятые московских и питерских ученых на разных этапах карьеры и выбивала для них казенные квартиры, какие-то железные столы и стулья, списанные из общежитий, учила ничего нового не покупать, на всем экономить, притаскивала пишущие машинки и ездила с ними на далекие склады за машинами стиральными. Она была человек действия, и ей вся эта движуха нравилась.
Но, конечно, все это могло произойти только по ошибке, и такой ошибки власти повторять не собирались. Тут был тайный сюжет. Постоянных ставок было очень мало. Они придерживались для своих. Для второго поколения, для детей и племянников – своих и своих друзей. Для тех, кто пока что «делал аспирантуру» в Штатах, в Канаде, во Франции. И загвоздка была в том, что эти русские думали, что все в порядке, и явно собирались остаться. С теми, кто дуриком уже оказался внутри, ничего теперь было не поделать, только стравливать между собой и душить потихоньку, отрезая надежды на развитие. (А потом как-то само получилось, что внутри одной, отдельно созданной, герметично запаянной кафедры создалось давление в тысячу атмосфер. И тогда все перессорились, и все рухнуло.)
С новичками же уже о преподавании речь не шла. Давали стипендии. Вскоре научились держать за причинное место: один старичок-профессор приехал за год до пенсии и получил постоянное штатное место. А другой приехал чуть спустя и получил возобновляемую раз в год стипендию. То-то он сидел тихо.
В общем, когда Лили узнала, что высшее начальство вознамерилось от большей части русских ученых избавиться, она что-то сказала поперек. Тогда избавились заодно и от нее. Пшла на раннюю пенсию!
Тем не менее, кафедра скоро прославилась, начал выходить отличный журнал (честное слово, поговаривали, что лучший в мире – в тот позднебрежневский момент) – и Проект русской филологии как столпа и утверждения истины, казалось бы, начал обрастать реальностью. Что-то такое вытанцовывалось. И, конечно, работали все, как никогда в жизни. До поры до времени. Все же довольно долго – больше десяти лет! И бабки на это отстегнуты были немалые, спасибо так спасибо!
Наверно, все мы были неадекватные. Боже мой, какие разные люди приезжали сюда из России! Например, один московский знакомый греб там деньги лопатой, и за дело. Он придумал непробиваемую систему обучения дур английскому языку. Это был корпус текстов, простеньких, но охватывающих весь человеческий опыт. Их дуры заучивали наизусть. Самая главная фишка была – мостик. И надо было уметь с любого вопроса экзаминатора по такому мостику переходить к нужному шаблону. Эти мостики были секретные, их было три разных. Больше на экзамене понадобиться не могло. Система была непрошибаемая и своих денег стоила. И чего уехал?
А потому что душа горела. Этот еврейский гений приехал сюда и тут всем чиновникам с гордостью объяснил, что он собирается пойти по следам булгаковского Иешуа и обновить православную веру. Мытарств принял немало и давно съехал в Штаты. Там он, по косвенным сведениям, учил английскому китайцев.
Может, и мы такими же были дураками? И даже наверняка! Это надо же! Развивать здесь руслит!
Мы разводили здесь утопии. Представьте себе Россию, но не такую Россию, как мы все знаем, а Россию, которая вся усовершенствована по Набокову – ни подлецов, ни идиотов, ни антисемитов! Все тонет в черемухе… Или, например, корабль грядущей России – у руля Гумилев, ошую Ахматова, одесную Мандельштам. Так что сыплется золото с кружев! Или Гоголь, но не тот Гоголь, которого все читали в школе, с Бобчинским и Добчинским и небокоптителями, а совсем-совсем другой…
Все это случилось по недосмотру и вскоре было бесповоротно исправлено. Я вижу много сложных причин и одну простую. Из-за Дьюи. Я имею в виду Десятичную Классификацию Дьюи (1873), а также сделанную на ее основе Унниверсальную Десятичную Классификацию. Модель, по которой устроены библиотеки – а значит, и все знание на Западе, ихние мозги:
010 библиография и т.д.; 100 философия и психология; 200 религия; 300 общественные науки; 400 язык (410 английский, потом французский, немецкий и т.д., и только 490 «другие языки» – среди них русский); 500 естественные науки и математика; 600 техника; 700 искусство; 800 литература (810 английская, etc., etc., и только 890 «литература на других языках» – среди них русская);
Так что руслит, как мы с вами хорошо знаем, начинается с 891.
Все израильские образованные люди вокруг нас видели мир через классификацию Дьюи. (Кроме тех немногих, от которых зависело когдатошнее решение открыть тут русскую кафедру. Те учились раньше и были европейцы. С тех пор они успели сойти со сцены. Как и Леа Гольдберг, от которой в Универе остался только резной письменный стол и стул – в специальной витрине рядом с библиотекой.
Но мы-то? Почему мы не видели этого у себя под носом? Мы же в каталоге десять лет копались с намерением прочесть все незнакомое? Мы же сто раз в день встречали друг друга, бегая по лестнице из каталога в читальный зал вверх и в ксерокс вниз, только шелестели в руках длинные, узкие, белые полоски требований? Как же не поняли, что мы «и др.»? Под самым распоследним номером?
Университет, конечно, был закрытая ложа для своих. Что же делать здесь ученым?
А очень просто. Был тут такой анекдот, еще с 1930-х годов. Рабочие на стройке передают друг другу кирпичи: – “Bitte schoen, Herr Professor Doktor!” – “Danke zehr, Herr Professor Doktor!”
Или вот еще один вариант: тут существовал культурный кружок старожилов, который тоже собирался где ж еще – в той же Рехавии. Один был банкир, но с литературной русской жилкой. Он собрал бесценную библиотеку тыщ на тридцать томов, пять тыщ из них по-русски, а собирать начал с тридцатых годов, как переехал из Германии (успел до всех!), и по сей день. Банкир – это очень хорошая специальность, она поощряет долголетие. Другая была секретарша кого-то важного эмигранта, который давно умер, но она как была в Париже, а потом в Нью-Йорке, так и оставалась в самом центре эмигрантских событий. Какие-то еще не полностью разруссифицированные клуши местного разлива служили фоном. Ходил туда земляк-аспирант, культивировавший старушек. Он в России привык, что у старушек всегда чудная память, есть у них в запасе и неизвестные стихи известных авторов, и бесценные воспоминания про поворотные моменты, и тем более что сказать о разных повстречавшихся им на разных этапах личностях. Правда, в Израиле на памятливых старушек всем было наплевать с высокого дерева. Но для Проекта и для журнала старые навыки пригождались.
Еще человек пять-шесть были люди нам совершенно непонятные – уже пожилые физики, математики и даже матлингвисты из Штатов, а двое так совсем старые немцы. Все эти товарищи здесь никогда не работали по специальности, а кто во что горазд – американцы, например, оседлали социалку. Однако, для души у них, оказалось, уже много лет действовал домашний специальный семинар о новостях науки. Это держало их в форме. Почему они не работали по специальности? Немцы приехали сюда в тридцатых (см. выше: “Bitte schoen”, etc.) – в конце концов устраивались на почте и в мелких конторах. Американцы же появились в начале семидесятых, в среднем возрасте. У меня было несколько таких знакомых. Все они приехали лет в сорок, и у всех был шаблонный отказ: «не годится, сверхквалифицирован». Заучился, мол. Я подозревала, что проблемы были не столько с ивритом, сколько с общей базой данных, чтобы не сказать – с мировоззрением.
В общем, подпольный физико-математический семинар собрался выслушать нашего чудного знакомого матлингвиста – визитера из Канады, про какие-то машинные алгоритмы, которые не анализировали текст, чтоб его разложить и потом собрать, а просто имитировали. Получалось очень круто. Электронно-вычислительной машинке скармливали чужие стихи, простыня за простыней, и в конце концов она, зажмурившись, пищала: – Подумаешь, Гомер нашелся! Я так тоже могу! И выдавала на гора – не отличить.
Следующий раз на кружке был художественный перевод. Свой новый перевод с иврита на русский язык – про что-то средневековое – читала толстая олимовская баба с нарисованным лицом. Мы услышали про архитектуру морисков, – по всей видимости, так она перевела мавританский архитектурный стиль, – и приуныли. Я взгрустнула по машинному переводу – машина хоть в словарь смотрит, он в нее встроен. Впрочем, никто ничего не заметил. А пироги были чудные – вечер удался.
Так и запомнилось – полутайные литературные кружки и полуподпольные научные семинары.
Может, и хорошо, что мы ничего не понимали? – А что? Надо было делать выводы из каталога Дьюи? Надо было сразу переключиться на прайд энд преджудис[3]? прунз энд призмз[4]?
Прошло очень много лет – шестнадцать, и вот, возобновились связи между Израилем и Россией, и я съездила навестить своих. Первое, что я там заметила, с некоторым даже удивлением – это что я не могу смотреть русские фильмы. Никак! Медленно, плохо играют, фонетика куда-то поехала… Что с редукцией гласных? Почему я должна смотреть на людей в погонах? На мертвые дворы и темно-зеленые коридоры! Я сама была поражена – я-то, которая плакала на «Фанни и Александер» Бергмана от одного вида желтого ампира на фоне снежных сугробов!
А второе – это было коллективное лицо. Угрюмое и своекорыстное. Вернувшись из России обратно в Израиль, я начала немножко понимать, что имели в виду израильтяне, вступив с нами в контакт тогда, в семидесятых…
А пока что по стране шли демонстрации протеста против только что неважно проведенной войны Судного дня – не проигранной, нет, но… в общем, тут и там слышалось слово «мехдаль». Оно означало «провал». Нас позвали в гости на концерт в какую-то сверхшикарную, аутентичную-старинную, с высоченным потолком хату с залом, роялем и несколькими рядами складных стульев. Концерту предшествовала речь. Кто-то зажигательно объяснял про провал, слышалось имя главного обличителя «провала» – Моти Ашкенази[5], но вот уже вышла очень толстая тетенька и божественным голосом спела про мельника, который жизнь ведет в движеньи. Bewegung![6] Немножко политики, но главное культура! Kultur![7]
А вскоре позвонили две дамы. Одна была молодая, не слишком близкая приятельница, замужем за каким-то международным – в общем, за какой-то европейской литературной шишкой. Они от общей гуманности и беспристрастности даже снимали дом в арабской части города. Другая была хорошо говорившая по-русски красавица немка – жила она в Германии, часто бывала в Израиле по своим делам, хоть никто не знал, в чем они заключаются, и приятельствовала с той певицей, и ошивалась в универе при советологии. Из-за гренадерского роста и какой-то повышенной четкости всех своих проявлений немецкая красотка снискала в олимовско-университетской среде прозвище Эльза Кох. И вот, отвезли они нас в чисто поле, в кибуцные наделы. Там накануне на меже, на каком-то бугре возведен был огроменный раскидистый памятник уже не помню кому и чему. Это якобы было культурное событие, и мы якобы должны были его посмотреть. Посмотрели, поужасались – пятьсот тонн чистой бронзы, расфигаченной в советском стиле поздних шестидесятых. Памятник был, однако, чистый предлог и к дальнейшему отношения не имел, и кибуцы тоже не имели. Главное, что потом пошли гулять – в обстановке стерильной анонимности, совершенной конфиденциальности и благорастворения духовитых сельских воздухов.
И вот, во время прогулки нас дамы ненавязчиво спрашивали:
– Ну и как вам… вот это все? – И они обводили сельскохозяйственный горизонт с синеющими на нем, прославленными в литературной традиции холмами каким-то нервным неоднозначным жестом. – Вот… вам нравится? Да? Действительно? И вот то? (уже без жеста), и вот эти? и те? Да? Неужели и те тоже? Ммм… А вам ничего такого не кажется… Что вообще-то… вот это – оно не очень… И то… А вот некоторым как раз кажется… Нет? Ммм… Интересно…
А нам все нравилось, и ничего такого не казалось.
– Ну ладно, ладно – ободрили они нас, так явно не оправдавших ожиданий. – Глядите, а погода-то! Погода-то какая!
И, убей Бог, так я и не знаю, что это было и зачем. Но чувство ужаса помню четко. Мы ведь прекрасно понимали, что они на самом деле спрашивали. А именно: не ощущаем ли мы законное и понятное, у всех интеллигентных людей общее отвращение к государству Израиль, которое… и ко всем этим, скажем прямо, евреям, которые… Они и заграницей-то, в культурных странах, нестерпимы, а здесь совсем уж распоясались, и еврействуют себе уже совсем разнузданно… И в том случае, что мы – да, так чувствуем, (как бы и полагалось, между нами, всем порядочным людям нашего круга чувствовать) – то вот, у нас есть к кому припасть на грудь и поделиться.
И все это буквально без единого слова! Все с помощью легких интонационных касаний, мычаний и молчаний! Высокий класс!
[1] Восемьдесят восемь профессоров (нем.) Аллюзия на вошедшую в первой трети 20 века в фольклор стихотворную цитату якобы из высказывания Отто Бисмарка о французском парламенте 1848-49 годов, приведенную в журнале “Deutche Rundschau” в 1901 г. В более полном виде этот стишок звучит так: “Acht und achtzig Advokaten: Vaterland, du bist verraten! Acht und achtzig Professoren: Vaterland, du bist verloren!” Восемьдесят восемь адвокатов: отечество предано! Восемьдесят восемь профессоров: отечество погибло! Цифра варьируется в зависимости от требований стихотворного размера: часто это Dreimal Hundert – триста (нем.).
[2] Двадцать пять капель (нем.).
[3] Pride and Prejudice (англ.) – «Гордость и предубеждение» (1813), роман английской писательницы Джейн Остин, любимое чтение на кафедрах и факультетах английского языка во всем мире.
[4] Буквально «сливы и призмы» (англ.), в русском переводе «персики и призмы», чтобы сохранить аллитерацию – знаменитая фраза из романа Чарльза Диккенса «Крошка Доррит» (1857), которая рекомендуется для произнесения молодым особам для придания приятной формы губам.
[5] Моти Ашкенази – капитан, герой войны Судного Дня (1973), возглавивший протесты против премьер-министра Рабочей партии Голды Меир. По его мнению, она была виновна в неготовности Израиля к этой войне и бездарно вела ее, что имело результатом огромное количество убитых.
[6] Движенье (нем.)
[7] Культура (нем.)
Рои Хен: ИСТОРИЯ О КАМНЕ
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 20:07Признаться, не будь я сам автором, ни слову бы из этого не поверил. В наши дни нет недостатка в шарлатанах, которые заигрывают с теми, кто готов их слушать, такчто человеку невдомек, что правда, а что кривда. Жителям нашего города любезны небылицы и разные гиперболы: всякое всякая соломинка в чужом глазу – корабельная мачта, недоразумение подается как несправедливость, всякий спор – уже драка, всякая встречная улыбочка – уже всенародная слава и всякая длинная фраза – уже теория. Солнечный удар! Если бы хоть умели врать – тогда дело другое, но что делать, любимых борзописцев, у которого в книгах водятся всякие возвышенно выражающиеся подонки. Был бы хоть патологическим вруном, так нет же – он придерживается какой-то правды, идиот, чтобы мы ему поверили, а ведь эта правда… Тьфу! Не хочется больше об этом рассуждать.
Однако же и я в начале своего рассказа отмечу одну правдивую деталь: шел 5768 год. Ради моих заморских и зарубежных читателей поясню также, что и не думаю обращаться к научной фантастике, а имею в виду еврейское летоисчисление, так что крестик ставить нет надобности.
– Шма Исраэль! – выпалил молодой ешиботник, подтягивая белый чулок на своей тощей лодыжке.
Даже в тени старого фикуса зной вылизывал всё его тело, словно большой пес. Подошвы остроносых ботинок давили мелкие орешки. В листве сновала оса. История этой осы вскрывает дополнительную черту в характере местных жителей: в семидесятые годы бабушка порхавшей в предыдущей фразе осы тайком пробралась в карман пассажира корабля, отправившегося в Землю Обетованную. К величайшему сожалению, история ее алии печальна. Следуя зову любви, она достигла единственного фикуса, который в силах была опылить, и уже при первой встрече отложила свои яйца в плодовые завязи в его вечнозеленой кроне. В результате орешки стали падать под ноги местным жителям, и те, вместо того, чтобы благословить брачный союз, прокляли ее появление и прозвали ее «осквернительницей тротуаров». Что было делать осе-иностранке? Но где же мой ешиботник?! Черт возьми, ведь только что он основательно тут расселся, и вот его уже и след простыл!
Итак, забудьте всё, что я вам до сих пор рассказывал и не тревожьтесь – я вас не брошу с неутоленной страстью. Для подобных оказий у меня всегда есть в запасе история про студента криминологии, безвинно арестованного в тот момент, когда… Ах, нет! Вот же он! Отлучился на минутку, дабы утолить жажду тепловатой водичкой из поливочного крана. Имя нашему ешиботнику – Элиша. Несмотря на то, что борода его буйно разрослась, супруга для Элиши всё еще не сыскалась. Давно уже состоялось сватовство, и даже начали обсуждать условия, но отец невесты слишком много запросил за свою драгоценность. Поговаривают, что именно по этой причине захворала матушка ешиботника, за которой он должен ухаживать даже в этот самый момент. А коли так, то чем же он занят здесь, под этим фикусом? Он поет. Негромко так. Напевает неведомо какую песню. Держит в руке небольшой камешек изрядного веса, историю которого я вам сейчас же и поведаю.
Где уродился сей камень? Вопрос сложный, но ответ на него прост: в Земле Израиля. Происхождение его, разумеется, покрыто мраком, но ясно, как Божий день, что, подобно всякому камню, он откололся от плазменной породы при остывании земного шара. Возраст его равен возрасту семейства Сассон, к которому принадлежит Элиша, глубоко уходящему корнями в эту землю, хотя часть сынов и дщерей его, изгнанных из Испании в Израиль, до сих пор не перестала о том тосковать. Во всех поколениях члены сего достойного семейства мыкали горе горькое, будучи в плену известной пословицы на ладино: муэртэ пато – муэртэ арто, то есть: умереть толстым, зато сытым.
Камень попал в семью непреднамеренно. В году 5242 он был брошен в окошко иерусалимского дома Сары Сассон приложившимся к чарке отчаянным волокитой, возомнившим, что дом замужней Сары Сассон – это дом его возлюбленной Розы Бенвеништ. Под вечер Роза, как обычно, ожидала камушка, летящего в светелку и означающего, что возлюбленный ее собирается залезть в ее окно, но вместо того услышала жуткие вопли из соседнего дома. То был убогий господин Сассон, вечно подозревавший безвинную свою супругу. Побивши юношу, поднял сей господин руку и на жену, требуя, чтобы та проглотила камень, подобно тому, как и ему придется проглотить унижение его достоинства, если он решится продолжать житье под одной крышей с нею. Сара Сассон, бывшая женщиной при всех дамских достоинствах, отправила своего мужа и повелителя на все черыре стороны. Остаток дней своих провела она в одиночестве, зато в счастии, толстой, зато сытой. А камень сохранила, ибо он вселил в нее уверенность в себе и изменил ее жизнь. На смертном одре она призвала к себе младшую сестру свою и вручила ей камень на память с просьбой хранить его со всей тщательностью.
Изрядно с тех пор поистерся тот камень, и величина его пошла на убыль, так что можно лишь вообразить сестрины уста, целующие его и клянущиеся со временем передать его младшему сыну как символ даденной нам Богом свободы выбора. И так из рода в род камень переходит из рук в руки, оставаясь в лоне семьи. Множество невзгод пережила семья из-за камня. Вспомним лишь одно выдающееся событие: в году 5513 младший сын Саломона, известного судьи из Тиберии, собрал во дворе дома кучу камней, решив позабавиться строительством башни. Среди прочих камней затесался и наш камень, при виде чего мать семейства вскричала «вай!» Никому достоверно не известно, являлся ли камень, из той груды камней извлеченный, действительно тем камнем, о котором мы ведем речь, но есть основания полагать, что так оно и было, ибо ему оказались присущи особые свойства. К примеру: приложи камень к больному месту – и ты излечишься, в момент отчаяния взгляни на камень – и дух твой умиротворится, и прочие подобные вещи. Некоторые, конечно, обвиняли Сассонов в идолопоклонстве, но большинство приходило незаметно погладить камешек, в надежде поправить свою личную жизнь.
И вот камень впервые добрался до Тель-Авива в руках Элиши Сассона, чья красная кровушка не пролилась ни разу, ибо родители оберегали его, словно дорогую вазу, да и сам он в Тель-Авиве впервые.
– Людей-то сколько, – бормочет Элиша. – Простите, а где море?
– Блядки ищешь? – спросил его негодяй, к которому он обратился.
Элиша с негодованием отшатнулся. В животе у него не бурчало, руки не дрожали, город его не соблазнял. Хотя, только приехав, он с изумлением смотрел на этих полуголых мужчин и женщин, но в результате дело свелось к улыбке всепрощения. Не то чтобы вовек не видывал он вещей, которые пристало обойти молчанием, однажды ему даже попался в руки журнальчик с детальными фотографиями, и он даже сосредоточенно изучил его в туалетной кабинке, но вместе с чувством освобождения он ощутил также гадливость и отказался от повторных экспериментов.
– Правда ли, что человек без жены – калека, помешанный, прокаженный? –спросил он некогда отца.
– Иди помойся, – ответствовал тот и отвернулся.
Запах тела крепчал по мере движения средь улиц шумных. Люди закупали товары и орали в мобильные телефоны, словно Песах на носу.
– Пришло время оставить свой дом, – подумал Элиша.
– Соку! – кричал ребенок матери.
Элиша вспомнил рыжеватый оттенок кожи тетушки Рашель. Вот уж и вправду несчастная женщина. Почему она выбрала именно его? Дело было на праздновании его бар-мицвы, на стоянке перед залом торжеств, в темноте, когда все его дружки скакали, как козлы. Насколько же легче было его плечам, прежде чем она взвалила на них это семейное предание! Сейчас камень гирькой лежал в его кармане, и он решил пересчитать нити в кистях цицит. А вдруг одной не хватает? Верный знак того, что нечистая сила тут как тут.
– Что за дурацкая песня! – вырвалось у него, когда какой-то мальчишка пропел: «Не ходил бы ты туда, Авраам! Там сожрет тебя волк, ам-ам-ам!»
– А может, во всем, что она рассказала, нет ни слова правды? – пронеслось у него в голове. – Может, то была басня с моралью, которую я прошляпил?
Пряный соленый воздух защекотал его ноздри и губы, и горизонт будто бы раздвинулся перед ним. Грязный мужик с перевернутым ящиком между ног предлагал прохожим угадать, где туз. Элиша наблюдал за ним и за его приятелем, оживленно игравшим, когда собиралась кучка народа, и скучая покуривавшим, когда никого не было. Элиша обнаружил, что в наших местах водится немало любопытных, моментально клюющих на удочку. Он спустился на пляж. Старик, чьи преклонные года было не измерить, закинул ногу за ухо и что-то мычал, глядя на волны.
Элиша снял ботинки и чулки и, обнаружив, что песок плавится, прохромал к пятну тени под пляжным зонтом. У него не было представления о том, что за земля лежит по ту сторону моря, да и есть ли за горизонтом вообще что-нибудь. Позади него простирался город, теперь казавшийся маленьким и понятным – этакий Штетл-Авив.
– Я работяга. Я не игрок и не начальник, и не вижу тут ничего такого. Дадут работу – я и работаю. Пусть только дадут работу! – сказал кто-то.
– Почему ты завсегда и буэшь нихто! – ответил ему приятель, и оба бросили на Элишу полные отвращения взгляды.
Он не обиделся. Рядом опустился голубь, всего на секунду, и тут же отправился дальше.
– Что же мне делать? – обратился Элиша в пространство.
– Дамей ампоко демазал и эйчамей ал мар, – донесся ответ.
Элиша резко обернулся, но никого не увидел. Он взглянул вверх, ожидая узреть лик того, чье полное имя непроизносимо.
– Куда ты смотришь? – послышалось снова.
Теперь стало ясно, что голос исходил из его кармана. Элиша живо сбросил черный пиджак на песок. Он проследил взглядом за людьми, прохаживавшимися по пляжу – все были заняты своими делами.
– Где ты? – заскулил голос из кармана.
Элиша промямлил извинения и кинулся к пиджаку. Поглаживая камень рукой, он почувствовал, что голова начинает кружиться, и осел на песок.
– Солнечный удар! – он решил, что слышит голоса по этой причине, и попытался собраться с мыслями. – Кругом сплошные камни. И валуны на берегу, и тротуары, и дома, и драгоценные камни, и белый песчаник, и камни, хранящие окаменелости, и надгробья. Чего больше на свете – камней или людей? Кто знает…
– Дамей ампоко демазал и эйчамей ал мар, дай мне немного счастья и брось меня в море! – повторил камень, и Элише захотелось расплакаться.
У камня не возникло рта, форма его оставалась прежней, в нем не было ничего человеческого, и вместе с тем он говорил на ладино с интонацией, напоминавшей Элише бабушку.
– Что это значит? – прошептал он и устыдился.
– Как, ты не знаешь наши пословицы?
– Будь у меня жена, этого бы не случилось, – подумалось ему. – Всю жизнь я маялся. Когда я был проклят? Может, это тетя Рашель меня сглазила.
– Ну и болван! – сказал камень.
Элиша стал молиться, и чем дольше молился, тем больше ощущал растущий в душе ужас. Камень молчал, только под конец произнес: «Аминь!» Он закрыл глаза и мысленно пожелал быть похороненным в мягком песке.
– Дай мне счастье! – снова попросил камень.
– Ты просишь счастья у того, у кого его нет, – сказал Элиша.
– Да ты порядочный скупердяй.
– Как мне поделиться тем, чего у меня нет?
– Но злосчастье же у тебя имеется?
– Верно, – шепотом согласился Элиша. – А зачем тебе злосчастье?
– Бескрайнее море смывает всякое горе.
– Ну, скажем, ты меня убедишь, и я вручу тебе свое злосчастье. Как же мне бросить тебя в море? Я обещал тете Рашель, что буду хранить тебя со всей тщательностью и передам в наследство сыну или дочери.
– У тебя есть сын или дочь? – спросил камень, похоже, зная ответ.
Элиша промолчал.
– Теперь он молчит, как камень. Эй, проснись! Тебе уже под тридцать!
Маленький мальчик подошел к берегу и с завидным легкомыслием стал кидать мелкие камушки в соленую воду.
– Мир настолько полон явных знаков, что похоже, никакой свободы выбора на самом деле не существует, – подумал Элиша.
– Ой, бово! Ну же, соглашайся! Ты думаешь, мне легко? – сказал камень.
– Не соглашусь. Данное тетушке обещание важнее личного счастья, – вдруг сказал Элиша, решившись вернуть камень в карман и самому вернуться домой. Он стосковался по матери и стал опасаться, как бы с ней не случилось в его отсутствие чего-нибудь страшного.
– Красивые слова, – заявил камень.
– Ты не согласен?
– Это не мое дело. Выбор в твоих руках.
– Но ты-то что думаешь? Ты, древний и мудрый?
– Я камень, дурик!
– Говорящий камень.
– Великое дело – говорить… Делать труднее.
– Эль Дио! Что же мне делать?
– Решай сам. Я умолкаю.
– Шоко-шоко! Лимон! – прямо над ухом Элиши прокричал торговец мороженым с белым лотком на колесах.
Тот с перепугу распластался на земле, накрывшись пиджаком.
– Приятель, ты в порядке? Ты красный, как рак, – спросил мороженщик.
– Голова побаливает.
– Выглядишь совсем плохо. Ты что тут делаешь?
Элиша разжал кулак перед самым его носом.
– Это что? Камень? Слышь, хочешь водички? Похоже ты схлопотал солнечный удар.
– Да… Нет… Проваливай!
– Пошел ты! Я только помочь хотел!
– Ты готов? – спросил Элиша у камня, но тот не ответил.
Он снова осмотрел его. Камень как камень. Серенький, увесистый. Сколько рук его держало, сколько надежд на него возлагалось, сколько уст его лобызало! Элиша тоже поднес камень ко рту, приложился к нему пересохшими губами и, закрыв глаза, подумал:
– Забирай мое злосчастье! Я хочу жить, хочу добрую, милую, богобоязненную жену, чтобы любила меня, и я бы ее любил всем сердцем. А прошлые и будущие поколения пусть идут ко всем чертям!
И изо всех сил швырнул камень в набежавшую волну.
ПЕРЕВОД С ИВРИТА: НЕКОД ЗИНГЕР
Тамар Геттер: ГЕРОЙ ОТВЕСНОГО ПЕРЕВАЛА. ЧА И ХА
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 19:27Герой Отвесного перевала
Это моя тень. Тень моего тела. Я вижу ее далеко внизу на обочине у основания дерева клокочины, на котором сижу: черный абсолютно точный круг, не многим меньше почти совпадающей с ним крышки канализационного люка. Узкая полоса делит круг на две практически равные части и пересекает крышку люка. Две изогнутые фигуры, удивительно похожие на тонкие девичьи руки, располагаются по обе стороны от полосы. Несмотря на поразительную схожесть этих фигур с поднятыми вверх руками девушки, и несмотря на то, что они прекрасны сами по себе, без всякой связи с воображаемой мною девицей, я вовсе не намереваюсь добавить их к силуэту моей тени, потому как не мои это руки и не имеют они ко мне ни малейшего отношения, даже если, без моей на то воли, по слабости человеческой, возникают в моем воображении.
Хочу объяснить, что надо мной довлеет более всего: трагически дерзкая выразительность этих длинных рук.
Вот что. Она разрушает до основания сжатое, четкое, геометрическое совершенство тени моего тела.
Я намереваюсь правдиво докладывать обо всем, что вижу, хотя всегда важно различать между главным и второстепенным.
Я записываю свои слова на диктофон. Впоследствии кто-нибудь законспектирует мои показания, четко различая между главным и второстепенным. Я не беру на себя никакой ответственности, я знаком с катастрофами, преследующими тех, кто взял на себя ответственность, особенно уверенных, что знают, как различать между главным и второстепенным. И не о генералах я говорю, даже если и думаю о них.
С высоты семи, может быть, шести метров, с места где я сижу на перекладине, прибитой гвоздями между двумя тонкими ветвями, изогнутыми, но вместе с тем самими прочными ветками клокочины, обрезанной и обрубленной не менее десяти раз за последние тридцать лет, но все еще возвышающегося на отвесную высоту, я наблюдаю за одной из самых грязных улиц в Яффе и за своей совершенной тенью, самой четкой из всех, какие я когда-либо видел, круглой, как итог жизни святого, отпечатанной подо мной там внизу, так близко к крышке канализационного люка.
Этот круг — обобщение меня, он разделен на две части полосой тени отперекладины, на которой я сижу.
Мои ягодицы огромны. Мои огромные ягодицы вдавлены в перекладину. Они слиты с ней цементом и известью.Таким образом моя тень – это, в сущности, тень моей задницы. Я говорю “обобщение меня“ без малейшего намерения намекнуть на то, что Я — это моя задница, даже если в этом и есть доля правды.
Я давний почитатель внятных, ярко выраженных форм. Посему я нахожу большое удовлетворение в той абстрактной фигуре, которую проецирует мое тело на тротуар. Она прекрасно скрывает отсутствие ног и рук и соединяет мой необъятный живот, большую круглую голову и огромные ягодицы в одну законченную форму. Это и есть черный круг. Он красив. Он целеустремлен. Он лежит на обочине дороги, почти совпадая с крышкой канализационного люка.
Полное совпадение между моей тенью и крышкой люка могло бы произойти если бы меня немного сдвинули вбок по перекладине, а нас обоих, меня и мой насест, опустили бы чуть ниже. Но усилия, связанные с подобным сложным действием, не стоят того, и солнце – позднее я столкнусь с этой проблемой, не будем пока предварять события – да солнце-то не знаю придет ли вообще мне на подмогу. Вчера не пришло, за все лето не пришло. Оно палит на меня, но под неподходящим углом.
Да и вообще солнце… Выдающиеся стратеги и великие полководцы, даже те, которые были толще и выше меня, разочаровались в нем, когда стало ясно вне всякого сомнения, что не замрет оно ради того Иегошуа, что не является одновременно и Иегошуа и воином, и судьей. Нет, от этого солнца не придет избавление для такого рядового Иегошуа, как я – кстати, так меня и зовут – все устремления которого сводятся к скромному желанию точно совместить его милую, круглую тень с крышкой канализационного люка на обочине.
Совместить один преходящий круг с кругом неизменным, вот то маленькое счастье, которого я себе желаю.
Ничего подобного не происходило и не произойдет. Чудо не свершится, в точности, как и не вернутся ко мне мои конечности, отнятые войной, так называемой Войной за Освобождение. Действительно, война эта достигла всеобщего освобождения, освобождения большинства. Подавляющего большинства. Главного большинства. Я не любитель отклонения от главного. Нет причины отклоняться от главного. И действительно, речь идет об освобождении, превосходящем всякое чудо, освобождении таком всеобъемлющем, что самый выдающийся стратег не мог предвидеть его созидательного масштаба, его многослойной глубины, а самое главное, – его таинственной силы.
Несмотря на то, что я не обладаю сверхъестественными способностями, все же всем своим существом, душевным и физическим, я являюсь результатом большого освобождения, и потому способен наклониться вперед и наблюдать, как движется подо мной круг, улучшая понемногу вероятность совпадения с крышкой люка. Я раскачиваюсь вперед и назад и с упоением высматриваю потенциал геометрического совершенства там внизу: захватывающую дух красоту.
Однако в тот момент, когда я склоняюсь вперед, на круге внизу появляется маленький бугорок, вроде шишки или ермолки. Это моя голова.
Если в нормальных условиях никому и в голову не придет подозревать в наличии ермолки угрозу геометрическому совершенству, таково неизбежное последствие моего необычного положения. С большой осторожностью я склоняюсь вперед со своей узкой перекладины на высоте семи метров и вижу, как моя ермолка уничтожает возможность подобного совершенства. Мой восторг исчезает без следа, но я точно знаю, что как только выпрямлюсь, ермолка исчезнет, и круг моей тени там внизу вернется к своему абсолюту.
Вожделение просыпается во мне при виде столь восхитительного образа моего тела и пробуждает страсть художника. Если бы я только мог спуститься туда и быстро обвести контур дивного круга. Если б только осталось это чудо там, на серых бетонных плитах, после того, как снимут меня с дерева. Если бы в моей руке очутился осколок мела, если бы была у меня рука… какое блаженство… Но я торчу в цементном корсете на дереве, а тень, так или иначе, исчезнет в одно мгновение с появлением первого облака. Пока я с осторожностью раскачиваюсь, наблюдая за чудом внизу на обочине, чудом, происходящимвблизи от крышки канализационного люка, безупречного самого по себе, у меня исчезает всякое сомнение относительно давнего убеждения, что страсть эта, страсть к силуэту тени (и к тому же, такой круглой и совершенной тени, как моя!), она и только она – источник всех благородных фигур, начало всех великих замыслов, воплощенных когда-либо художниками и архитекторами. Ложка дегтя в бочке меда; тошнота и головокружение охватывают меня, и я вынужден прекратить свои раскачивания. К тому же, перекладина, по правде говоря, простая неотесанная доска, на которую налеплен мой бетон, не отличается особой устойчивостью, так же, как и ветки клокочины. Мне не остается ничего большего, чем уповать на силу собственного воображения.
И я воображаю себе полное совпадение!
Меня затащили сюда подъемным краном и прилепили к доске разъедающими кожу цементом и известью. “Твою мать, каждое утро одно и то же, тащите уже наверх эту жопу“ – кричал в телефонную трубку строительный подрядчик, подкрепляя слова непристойным жестом в сторону утомленного крановщика, сидящего вдалеке, в своей застекленной и охлажденной кабине, с рукой на пульте, поднимающем и опускающем панельные стены. “И поставь ему на доску диктофон“ – добавил подрядчик, будто речь шла об установке в ветвях дерева стандартного укомплектованного модуля. Мне же он объяснил с особой вежливостью: “Сегодня ты тоже переезжаешь на новое место, Иегошуа, ты поднимаешься наверх. Это потому, что ты слишком много разговариваешь, морочишь нам голову, выматываешь душу, не даешь работать спокойно, делаешь нам дырку в голове, да и сам ты – дырка, жопа, куча дырок, ничтожество, ноль без палочки.“
Я бесконечно благодарен расторопному подрядчику. Его мозг работает, как компьютер для трехмерной графики. Если бы только такие подрядчики командовали нашей армией, как дерзко и неожиданно преобразились бы отжившие свой век старые стратегические схемы.
Так как моя прекрасная тень имеет значительно больше шансов на успех в мире воображаемом нежели реальном, я могу просто наблюдать за улицей, распростертой подо мной. Это одна из самых грязных и замусоренных улиц в Яффе. Подрядчик кричит снизу: “Иегошуа, смотри не упади мне, закончил молиться, Будда гребанный, как там у тебя в Индии?“ Расторопный он, но грубый. Прозвал “молитвой“ мои раскачивания, хотя это не что иное как наблюдение за тенью. Со сквернословами мне говорить не о чем.
Множество детей (заброшенных…) множество больных (чего-то ждущих) множество нищих (толпящихся…) множество тряпичников (может быть: продают тряпки оптом… или по-простому: барахло…) множество стариков (изможденных…) множество правонарушителей (жуликов… может быть: под надзором полиции…) — — — я готовлю возможную сводку событий для передачи вниз строительному подрядчику, на случай, если бы эта грязная улица и в самом деле кипела бы жизнью. Как, например, улица Фуар в Париже. Я помню – нет, я действительно знаю ее – улицу из рассказа Бальзака “Дело об опеке“. О, этот человек, Бальзак…
Но улица, лежащая подо мной совершенно безжизненна. Да и вся эта стройка совершенно безжизненна. Кроме моего подрядчика – персонажа допотопного, крикливого, бегающего под палящим солнцем, кроме него и меня, жарящегося на медленном огне на верхушке дерева, изгнанного и вычеркнутого отовсюду с момента окончания Войны за Освобождение, за исключением нас обоих, все действующие лица, то есть все рабочие, завезенные по договору или убежавшие по необходимости, или те, которые были сначала изгнаны, а потом завезены, я бы сказал, лица, на самом деле производящие какие-либо действия, все они практически невидимы и возникают на поверхности на считанные секунды, да и то – в редкие дни, когда делать-то особенно нечего. Все поставлено на промышленную ногу. Работа в основном делается нажатием кнопки.
Как выяснилось, нелепая процедура прикрепления меня бетоном и известью к доске в кроне клокочины – это проделка не из нашей эпохи. Не из нашей эпохи? Давеча в Ватикане, новый святой был утвержден покровителем интернета, а здесь, в углу одной из самых грязных улиц в Яффе, для строительного подрядчика, управляющего десятками пультов и кнопок, нет ничего более важного, чем воплощение в жизнь жалкой и незначительной фантазии: прилепить цементом и известью к доске, болтающейся в кроне дерева безногого и безрукого ветерана войны, каковым я являюсь. Однако одной подобной идеи недостаточно, чтобы оживить мертвую улицу. Нечеловеческие усилия потребовались незаметным рабочим моего подрядчика для воплощения в жизнь его примитивного замысла. И все же, есть что-то в нем, в моем подрядчике. По крайней мере есть в нем доля чего-то забытого, отголосок времен работ кустарных, может быть даже легкий привкус раскрепощения, который был когда то, я полагаю,в физическом труде … Несмотря на его выдающуюся грубость, все же, как я обнаружил на собственной шкуре, есть у моего подрядчика толика воображения. И эта общность между нами вызывает у меня легкое волнение.
Если бы не моя совершенная тень там внизу на тротуаре, я бы сказал, что эта грязная улица, за которой я наблюдаю, лишена чего-либо достойного внимания. Я утверждаю это, полностью сознавая, что подобное мое заявление, сделанное с определенной небрежностью, отделяет главное от второстепенного. Веские теории зачастую оказываются спорными. В моем же случае ничего спорного нет: эта улица мертва. Даже без моего на нее взгляда. Она лишена всякой жизни несмотря на наличие, а может, как раз благодаря присутствию детей, больных, нищих, тряпичников, тряпок, стариков и жуликов, заполоняющих ее.
Со все возрастающим омерзением я наблюдаю за суетой многочисленных людей и машин по этой улице, которую, если я наклоняю голову, мне почти удается разглядывать с боку, что не добавляет ей никакой привлекательности, оставляя одной из самых грязных улиц в Яффе.
А та, другая улица – жива. Да, да – улица Бальзака. Она заполнена похожими людьми. Воссозданная в его рассказе, она засела во мне с такой реалистичной очевидностью, которая превосходит оскорбляющую взгляд и душу тусклую реальность улицы под деревом.
В этом тоже нет ни малейшего сомнения: такова бездна моего падения…
Такова бездна моего падения. Я давний почитатель внятных, ярко выраженных форм. За исключением моей тени, на всей обозреваемой мной улице, даже при полном освещении, нет ничего внятного – ни человека, ни здания, ни вещи.
Жирная и жалкая жопа; однако таков я: пленник красоты. Тело – напасть по имени Иегошуа, но зато душа – Бальзак. О Бальзак, благородное сердце, человек принципов! Реки чернил истратил на скрупулезные описания городов. В каждой линии – смысл, в каждом описании – вера, для каждого камня – слово, с каждой водосточной трубой – диалог! А что остается мне? У меня есть безупречная тень моего тела, освобожденного от конечностей благодаря великой войне, тень, дарованная мне строительным подрядчиком. А что у него, у моего почитаемого писателя-педагога? У него – небеса, необъятный горизонт этических просторов, рассекающая тьму прямота…
Моя изъеденная задница раскачивается взад и вперед на шаткой доске, и я обливаюсь слезами в душе и потом снаружи. Если бы не это упрямое дерево, продолжающее расти несмотря на постоянную обрубку, и, если бы не подрядчик, начавший стройку на этом пустыре, у меня не было бы даже тени.
Я торчу здесь, в Яффе, на доске, на дереве, со своим Бальзаком. Немало повлиял этот человек на мои идеи о правах на эту землю здесь, в Яффе, правах общественных и личных, на землю, которую до недавнего времени я считал моей и только моей собственностью! На этой земле мой подрядчик строит что-то, что он называет “ многоэтажная куколка“. И куколка эта, как он обещает, обеспечит мое будущее.
Нет, не скажу ему больше ни слова. Из глубин моей памяти, из которых не ускользает ни капли, я нашептываю на свой диктофон отрывки из Бальзака, об улице Фуар:
“Улица Фуар, или, в старом значении этого слова, –
Соломенная, в ХIII веке была самой известной улицей в Париже. Там помещались аудитории университета, когда голоса Абеляра и Жерсона гремели на весь ученый мир. Теперь это одна из самых грязных улиц Двенадцатого округа, самого бедного парижского квартала, где двум третям населения зимой нечем топить, где особенно много подкидышей в приютах, больных в больницах, нищих на улице, тряпичников у свалок, изможденных стариков, греющихся на солнышке у порогов домов, безработных мастеровых на площадях, арестантов в исправительной полиции.“
Внизу снова орет подрядчик: “Что слышно, Буддаааа?!“ Я не отвечаю. Нет. Нечего мне сообщить ему касательно состояния города и улицы. Его положение – я точно знаю – тоже не ахти: чем выше поднимаются в небеса новые небоскребы, тем более похожими на кротов становятся строительные работяги. Всё крепче и крепче привязываются они к земле, работая в основном под поверхностью. Практически всё строят сейчас снизу-вверх. Всю работу делают внизу и снизу, вслепую. Не видя ничего, что происходит на улице.
Из этого следует, что мой шаткий насест на вершине раскидистой клокочины оказывается гораздо более важным местом, чем я себе ранее представлял. У него есть функция. Это своего рода смотровая вышка, место полезное, но прискорбно забытое в наши дни.
Моя голова жарится на солнце, а задница преет на известковой смеси. По мне текут реки пота и я ощущаю себя огромным куском мяса на вертеле. И все же, остались во мне и известное упорство, и внутренняя свобода непредвзято размышлять о своем непростом положении. Я прекрасно осознаю, что даже если выходки моего подрядчика будут становиться все более дикими и извращенными, ничего противозаконного в них нет. Несмотря на достоинства моей смотровой вышки во всем, что касается наблюдения за улицей, по большому счету , его ситуация более выигрышна, чем моя, и мне нечего ему предложить.
Мое положение, положение человека без рук и без ног, упаси Господи, давнего почитателя простых форм, оставляет желать лучшего и в отношении того, что у нас называют “муниципальным надзором“. Нет у меня чрезмерно возвышенных принципов. У меня вообще нет принципов. Сделка заключена. Дело сделано.
Какая дрянная улица. Не ожидал я такого мерзкого оптического изобилия, такого наплыва тряпок и тряпичников, такого количества барахла. Действительно, так много барахла и так мало жизни. Не знаю уж куда и смотреть. Какому порядку подчинить то, что не знает порядка, чему противен всякий порядок, что не нуждается в порядке, и уж конечно не нуждается в порядке моем.
Великий судья Иегошуа умер давно. Хотя с той самой поры солнце никогда больше не останавливало свой ход в честь полководцев, не решало спасительным союзом исхода ни одной важной битвы, погружая самых искусных стратегов в темноту забвения, меня это упрямое солнце не оставляет в покое. Палит на мою голову со стоическим рвением. Ни облачка на горизонте. Пока всё без перемен.
Я возвращаюсь к наблюдению за своей милой тенью. Она там – круглая, черная, как деготь, почти совпадающая с крышкой канализационного люка, но при этом, несмотря даже на маленькую шишку, которая, конечно, исчезнет, как только я выпрямлюсь, безупречная в своем совершенстве.
Сделка заключена. Дело сделано.
И в Хайфе тоже проект утвержден. Как обещает строительный подрядчик, конфликт по поводу землевладения начнется там уже после того, как вся наша бригада, со всеми машинами, будет глубоко под каменистой землей, в самой утробе горы Кармель, когда без особых наших усилий пятый этаж уже вознесется в небеса. Моему на эту тему мнению, как и мнению по поводу “ многоэтажной куколки “, грош цена в базарный день.
Через пять лет начнем строить многоэтажку в Хайфе. В нижнем городе. Высотный дом с видом на весь залив на одной из самых грязных улиц Хайфы, над оптовым рынком, по соседству с “Хайфской Башней“ – другим возведенным там безобразием.
По улице Фуар расхаживал Абеляр…
Ни там, в Хайфе, ни здесь, в Яффе, на этой улице, которую я обозреваю в данный момент, Абеляр не расхаживал. Его возлюбленная Элоиза здесь тоже не живет и никогда не жила, никого не вдохновляла, ничьих товаров не озаряла красотой. Ни на одной из стен нет ее инициалов. Ни в одном лоскутке не найти отголоска величия духа этой падшей настоятельницы монастыря, прекраснейшей и мудрейшей из всех правоверных женщин всех времен. Какое мне до нее дело? На что мне вообще дались французы? На что мне дался строительный подрядчик? Какое мне дело до Яффы? Так вот, я скажу вам самое главное: ни в один исторический момент ни одной паре благородных влюбленных, подобной Абеляру и Элоизе, не удалось испытать на этой улице освободительного порыва любви. Ни одна здешняя церковь, мечеть или синагога не были местом тайных свиданий для просвещенной четы, грехи которой стали вершиной цивилизации. Вот так. Сколько бы ни палило солнце, из святых мест всегда будет тянуть влажной прохладой. Так и в Яффе. Но здесь причина не в делах любовных. Никогда не было у этой дрянной улицы своих Абеляра и Элоизы. Нет, эта улица – мертвая. Мертворождённая. Мертворождённая в нищете. Были у нее дни достатка, но сейчас она бедна и мертва. Переходит из рук в руки, от отцов к детям, от веры к вере, от захватчика к захватчику, от подрядчика к подрядчику. Ее ткани и одежды лишены прекрасных узоров. Как лишена она всякого намека на великих возлюбленных, и в дни их печали, и в дни радости.
Бальзак был толст. Крепкого телосложения. С ляжками полководца, хотя никаким полководцем никогда и не был. Его череп, не будучи черепом полководца, был крепок, как и ляжки. А зад необъятен. Это из-за его огромного зада у меня к Бальзаку, рыцарю этических просторов, отношение особое.
Случается такое дело: с одной стороны зад, а с другой перед. А у Бальзака впереди лицо, сосредоточенное, с гримасой нестерпимой скуки. Можно сказать, мрачное лицо. Зависит от того, как падает солнечный свет. Такое вот дело. И в Париже то же самое. Не равнодушен я к описателям городов. А памятник Бальзаку люблю за то, что он огромнее самого этого большого человека. Столп! И в определенные часы тень от него – точный круг.
И еще есть Абеляр. С одной стороны, никто в точности не знает, как выглядел этот древний философ, а с другой –
утверждают, что был он красив, даже очень красив. Прекраснее его красавицы. Из-за того, что был так хорош собой, Абеляр у меня тоже на особом счету. Человек тринадцатого века, отличившийся сначала в философии, потом в постели, потом в них обеих, и напоследок –
в одной только философии, оскопленный ревнителями веры и обычными ревнивцами, не вынесшими свободы духа его прекрасной возлюбленной и дерзости их постельных утех. И все же, он выжил среди этих людей; несчастный и оскопленный, он стал аббатом, лжецом и лицемером, по образу и подобию гонителей своих. Канула в Лету его чудесная свобода. Странно, как все возвращается на круги своя.
А его красавица Элоиза? Вот она мне по душе. Никакой религиозной догме не удалось омрачить чистоту ее идеалов, ясность ее разума. У меня тоже была одна такая. Почти была. До Войны за Освобождение, до того, как обкромсали меня в боях. Несмотря на то, что в те времена я был легок на подъем, пока собирался с духом, она ушла к другому, к одному из генералов, так что не довелось запечатлеться в здешней истории ничему из того, что так ценно для меня. Она вышла замуж за генерала, который не был оскоплен как я, открыла валютный счет в американском банке, и всё, что делало ее похожей на мою обожаемую Элоизу, оказалось не более чем еще одним обманом воображения.
Не на что мне больше надеяться, мне,
Иегошуа-Заднице, в которого превратила меня большая война. Хотя во всех остальных отношениях она меня освободила. Жаловаться мне не на что. Мне, рядовому из рядовых, нулю без палочки, все устремления которого сводятся к скромному желанию совместить его милую, круглую тень с крышкой канализационного люка.
Совместить один преходящий круг с кругом неизменным – вот то маленькое счастье, которого я себе прошу.
“Телочки, Будда, телочки, видишь там что-нибудь на подходе?“ – орет снизу подрядчик. Можно подумать, что в довершение всего я еще и глухой. Я погружен в свои мысли, а он разрывается там внизу. Хотел бы я ему ответить в той же манере: “Подваливай как стемнеет. Яффа ночью хороша…“ Но я держу язык за зубами. Одно лишнее слово – и мне конец. Если осмелюсь открыть рот, он еще меня тут на ночь оставит. Садист. Он стоит на обочине под деревом, не замечая, что беспардонно топчется по моей тени. Одна нога на тени, а другая на крышке люка. У меня дух перехватило от возмущения, чуть в обморок не упал. А он только нагло пялится на меня снизу — — —
Простая мысль крутится в моей голове: “Чем бы мне накрыть этот котел?“
“Отвечай, Иегошуа, чего ты там замолчал?“ – орет мне подрядчик. “Что ты там делаешь? Может проголодался?“ – Спрашивает он чуть тише и уже не так нагло. Нет у меня доверия к его угрызениям совести. Только что был я Буддой, а теперь вдруг стал птенчиком, птичкой одинокой на крыше. “Ладно, сейчас поднимем к тебе кусок курицы“ – заорал он снова, и его фальшивый хриплый смех заполонил всю строительную площадку.
*****
А – а – а – а – а – а – а– а – а – а– а – а – а– а – а – а– а – а – а – а– а – а – а– а – а – а– а – а – а
Я слышу душераздирающий вопль. Не знаю в какой степени записал его стоящий рядом со мной диктофон. Даже самой точной и качественной записи не передать его пронзительного ужаса. Придется довольствоваться длинным, в полторы строчки, рядом букв. Однако этот вопль запечатлен в моем теле. В остатках моего позвоночника. Он звенит или точнее – стучит в хрящах, сдавленных платиновыми пластинами, воспроизводящими мой кобчик, размолоченный, как и вся нижняя часть тела, в бою за Отвесный перевал. Боль пронизывает меня. Как будто кто-то нанес страшный удар по затылку. Шея входит еще глубже в тело, и вместе с ней опадают складки жира, поддерживающие голову. Легкие сдавливаются. Судорога сотрясает всё мое тело. Я чувствую, как дрожат лимфатические узлы. Уши, как ни странно, как будто закупорены, а может это тишина, наступившая после ужасного крика. Несмотря на жару, я покрываюсь ледяной испариной. Я больше не контролирую свое тело. Струйка мочи растекается по бетонному основанию и несколько капель падают вниз в облако мелкой пыли, поднимающегося с огромной скоростью до высоты моего лица. Я зажмуриваю глаза и больше не в состоянии их открыть. Одна надежда на прочность бетонного пояса, удерживающего меня на доске. Я боюсь упасть.
Случилась авария.
Я слышу, как подрядчик орет: “Авария, авария“. А потом начинается матерщина. Залпы мата. Я не очень полагаюсь на мой нехитрый диктофон, но у меня нет ни малейшего желания воспроизводить здесь его ругань. А потом он заладил “Господи, Господи“. Иногда просто “Господи“, иногда “Господи Боже мой“. Он даже кричал “my God“. Неудивительно – после всех лет, которые он прожил в Лос Анжелесе. И вовсе не потому, что речь идет о городе ангелов. Подрядчик орет во всю глотку. Я не виноват, что он орет.
В моем положении возможность вращения вокруг собственной оси сводится к нулю. Даже если бы я мог открыть глаза, мне не суждено увидеть то, что происходит за моей спиной.
Я хорошо изучил подрядчика, знаю его, как свои пять пальцев, оставшихся на отвесе того перевала, но по-прежнему присутствующих в моем сознании, как будто они все еще со мной, как будто нас не оторвали друг от друга. Несмотря на то, что глаза мои зажмурены, что я ничего не видел и не вижу, что никто не умудрился поставить меня в известность о происходящем внизу, мне нет надобности ничего придумывать, ничего воображать, я всё знаю, сопоставляю без труда немногочисленные факты последней выходки моего подрядчика: смазали машинным маслом подъемный кран; он перестал скрипеть; несмотря на мой отличный слух, я ничего не слышал; сюрприз готовился в мою честь; подъемный кран зацепил панельную стену; к стене привязали Имада Афнани с тарелкой курицы для меня; на развороте, на котором стена должна была обойти дерево и поднять к моим глазам Имада Афнани с курицей, на расстояние необходимое для впихивания мне вилки в рот, всё рухнуло. Крановщик, этот полный идиот, нажал на кнопку “drop“, думая про маленькую вилку, а не про большую вилку крана. Его голова не работает в соответствии с компьютером в голове моего подрядчика. С другой стороны, он не виноват в том, что подрядчик требует от него акробатического мастерства. Теперь Имад и моя курица раздавлены. Курица, которая и так была уже хорошо отбита, раздавлена по второму разу, а Имад Афнани, испытавший за свою жизнь немало давления, раздавлен навсегда.
Мои глаза закрыты. Даже если бы я того хотел, я не мог бы их открыть из-за слепящего солнца, пыли и пота. Может быть из глаз текут слезы. Лицо потеряло чувствительность. И все же я вижу весь этот кошмар и мое сознание затуманивается. Три раза в день кормил меня мой Имад. Он мыл меня и пеленал. Нету больше моего Имада. Я слышу сирену едущей по улице скорой помощи. Сирену полицейской машины, пожарную сирену. Дети, больные, жулики, тряпичники, старики… Все это сбивается в кучу под деревом. Я ничего не вижу, я знаю. Как знаю с полной достоверностью, в какой истерике сейчас крановщик. Я с ним знаком, с этой тощей селедкой, правой рукой подрядчика. А стена, я уверен, до сих пор лежит на погребенных под нею людях. Вся панель. Незачем поднимать эту стену. Надеюсь, что ее и не поднимут. Ни один арабский рабочий в этой стране не удостоился могилы размером в целый этаж, этаж шириной в небольшую площадь – в наше время стены возводят одним нажатием кнопки.
Я начинаю раскачиваться. На этот раз не по своей воле и не для того, чтобы увидеть положение моей круглой тени на тротуаре внизу. Этого тротуара сейчас и не видно из-за толпящихся на нем людей. Они пялятся вверх, на меня, и кричат все то, что можно кричать в подобной ситуации. “Бедняга. Как он туда забрался. Кто этот сумасшедший, который его туда затащил. Что за страна такая, что тут твориться… Господи, my God“ и тому подобные известные всем слова и фразы. Есть даже один, который орет: “Что б я так жил – Иегошуа, герой битвы за Отвесный перевал… кто же, черт побери, мог такое сделать.“
Ча и Ха
Недостающая рука акробата Ча осталась в пасти у спокойного, обычно послушного и по большей части сонного льва Джонни в результате спора с дрессировщиком львов, голландцем по имени Ха.
Ха завидовал выдающимся акробатическим способностям Ча, тогда как Ча завидовал бесстрашию, проявляемому Ха в клетке с хищниками, как и вообще его удивительному умению завоевывать доверие львов и всяких других животных. Человек, способный наблюдать за животными с такой беспредельной внимательностью и готовый тратить на это занятие почти все свое время, был по мнению Ча сверхчеловеком. У Ха во время представлений Ча наворачивались на глаза слезы восторга. Он был уверен в том, что способность Ча безошибочно находить точку опоры в самых сложных стойках, которые тот с легкостью изобретал, никогда не повторяясь, является бесспорным доказательством его полного и абсолютного внутреннего самообладания. Все акробаты отличаются большой гибкостью, но в представлениях Ча было нечто особенное; Ха считал, что Ча обладает сверхъестественным даром. Он смотрел на миниатюрного Ча, летающего над башнями из стульев и бутылок, утирал слезы и уходил с поникшей головой навестить льва Джонни, глубоко осознавая тяжесть и неуклюжесть своего тела. Он усаживался перед львом, пялился в упор в его огромные желтые глаза, равнодушно, почти с отвращением рассматривая зрачки своей огромной кошки, и глубоко вздыхал.
Однажды, когда Ха и Ча разошлись не на шутку, восхваляя один достоинства другого, и их благородное соперничество приняло явно враждебный характер, Ха предложил разрешить спор и доказать всем и каждому сверхчеловеческие способности абсолютно владеющего собой Ча, который преспокойно зайдя в клетку льва Джонни наглядно продемонстрирует превосходство тонкой человеческой души над тупым равнодушием животного.
Разгорячённый спором, Ча не замедлил войти в клетку, и не более чем за одну минуту расстался с предплечьем своей правой руки, оставшемся висеть на правом нижнем клыке льва Джонни. Продолжение истории было не менее невероятным: Ха, обуянный чувством вины, решил тут же покончить с собой и, с диким криком, испугавшем даже Джонни, запрыгнул в клетку. Лев был готов принять самое страшное из наказаний. Как провинившаяся собачонка, он завалился на спину, поджал лапы, и из его полуоткрытого рта свисала застрявшая на клыке рука Ча. Умоляющими глазами смотрел он на бушующего дрессировщика, который, обливаясь слезами, засунул свою голову и половину тела в львиную пасть и приказал Джонни сомкнуть челюсти. Джонни не послушался. Ха продолжал кричать во все горло в пасть льву. Джонни не слушался. Несмотря на нестерпимую боль, покалеченный Ча сотрясался в припадке смеха. Весь в крови, дико хохоча, он из последних сил вытянул Ха из пасти Джонни и вытолкнул из клетки. И тогда, продолжая смеяться, потерял сознание.
Руку спасти не удалось. Не спеша и с мнимой робостью, как застигнутый врасплох воришка, пытающийся спрятать украденное добро на глазах у не менее озадаченного полицейского, ее, вместе с рукавом, заглотил лев Джонни.
Ха ухаживал за Ча во время выздоровления и помогал ему отрабатывать новые трюки. Однорукий Ча удвоил количество стульев и бутылок в своих башнях, возведение которых на огромную высоту требовало немалой изобретательности. Когда Ча в конце концов возобновил свои выступления, они оказались еще более сложными и захватывающими дух, чем прежде. В результате такого успеха, Ха удалось убедить хозяина цирка купить львицу для Джонни. Спаривание прошло удачно. Джонни стал менее сонным и более свирепым. Прошло совсем не много времени, и львиная клетка заполнилась бодрым семейством хищников, довольно опасным, хотя и потешным. Ха руководил всем происходящим с удивительным мастерством и его собственный номер также стал еще более оригинальным и рискованным. Он усаживал своих львов и вкладывал в их распростертые пасти перепуганных кроликов. Особо кровожадным детям предлагалось приказать львам сомкнуть челюсти. Львы не подчинялись. Тогда Ха спасал кроликов и дарил их детям. Ча, балансируя на обрубке правой руки, уравновешивал себя на верхушке своих башен, а левой рукой рассыпал вниз позолоченные рисовые зерна. Публика стонала от восторга. Число посетителей цирка умножилось, и выручка возросла до ранее неведанных пределов. Положение всех членов труппы, главных и вспомогательных, претерпело чудесные изменения: зарплата, жилье, рацион, физическое состояние, разнообразные льготы и подарки, выходные и отпуска, а самое главное – образование, страховки и пенсионные фонды – всё это улучшилось до неузнаваемости.
На верхушку треноги приделали четыре кронштейна, на которые поставили первый стул – каждая нога на бутылке. Сверху водрузили второй стул – на бочке. Третий установили вверх ногами на второй на двух мячах. На всё это опустили оставшиеся восемь стульев, нагроможденные один на другой не поддающимся описанию образом. На вершине конструкции непринужденно балансировал на своей единственной руке Ча, с ногами, устремленными в небеса, и вращал во рту красный бумажный зонтик.
Сомневаться не приходилось – Ча добился успеха. Несмотря на то, что был однорук или благодаря этому, а может просто из-за своего таланта. И вправду, он был тонким и легким, как перышко. Успех Ча был неслыханным. Его представление превзошло в своей точности безупречные окружности Джотто, которые художник рисовал от руки на глазах у поклонников, трепещущих от восторга, словно при виде самого божества.
Однажды у Ха было прескверное настроение. С горечью наблюдал он за летающим над ним другом и думал про себя: вот круг и еще круг или тысяча таких безупречных кругов, подобных пируэтам Ча в высоте, один взгляд на подобное совершенство, а что от него остаётся? Ха падал духом все больше и больше: чему, кроме ущербности и неудачи, озаренных пугающим светом своей чужеродности, дано вознестись выше, под самые небеса? Слезы навернулись на глаза Ха. А что с тем, кто так нуждается в совершенстве и лишен его? Настроение Ха стало совсем ужасным. Возьмем, например, террориста-смертника, – Ха погружался все глубже и глубже в свои мысли, – этот террорист, – размышлял он, – персонаж незначительный, второстепенный, недостойный внимания… этот тип с автоматом или взрывчаткой, готовый на всё, ослепленный и устремленный весь без остатка куда-то в бесконечность, в которой он распадается на части и разлетается во все стороны, наказанный, уходящий из жизни и из бесконечности в одно мгновение, подобно всем, кто был чрезмерно горд и алчен…
Да и во что превратится это совершенство?
С открытыми ртами и ноющими шеями следили зрители за перевернутым вверх ногами Ча, стоящего на огромной высоте на башне из шатающихся стульев и вращающего во рту раздражающе красный маленький бумажный зонтик.
Сосредоточенность была абсолютной. О ней можно было судить по тому особому напряжению, которое отличает людей, наблюдающих за проявлением выдающихся способностей человеческого тела. Никакой книге, никакой идее не дано погрузить человека в состояние подобноё сосредоточенности. Дети и старики, все как один смотрели вверх с открытыми ртами. Могу засвидетельствовать по собственному опыту – мухи, летающие в цирке, погибали в этих ртах одна за другой.
Но не истребление мух сводило с ума, а мелькание Ча.
Ох уж этот Ча, проказник на шатающейся башне…
Он был чудом природы и самым дерзким из всех акробатов, посвятивших свою жизнь выяснению того, сколько стульев можно нагромоздить на стеклянные бутылки. Много радости принес в мир этот чудесный калека, и много слёз. Ха проливал их каждый раз, когда божественный Ча парил вниз головой под куполом с красным зонтиком, вращающемся как пропеллер.
Однако, в конце концов, все это вдруг оказывается не более чем слабыми отголосками банального и привычного кошмара. Ха обуревала зависть; в ничтожестве ее хронического провала мерцал во мраке протест террориста, увеличивая её до такой степени, что Ча казался далеким и потерянным, как падающая звезда.
Так это было:
Недостающая рука акробата Ча осталась в пасти у того самого льва Джонни, действительно спокойного, обычно послушного и по большей части сонного, в результате спора с дрессировщиком львов, голландцем с немного глуповатым именем Ха.
Этот Ха завидовал летающему Ча.
Несмотря на то, что он выливал на себя флаконы духов, от Ха зачастую несло кислым запахом львиной мочи, а на обуви всегда были налеплены куски испражнений, даже на паре выходных туфель с бриллиантовыми пряжками, которыми он особенно дорожил, надевая только во время представлений. Ну что это за жизнь? Топтание в опилках, хлест плетью, помыкание огромной кошкой… Ха чувствовал себя ничего не стоящим, полным ничтожеством; мужчина в расцвете сил, застрявший в клетке со львом. У нас обоих нет никакой мотивации, думал Ха с тоской. Все впустую. И все же он любил своего льва. Как любое прирученное животное, так и Джонни был львом чувствительным, со странностями; он страдал аллергиями, желудочными коликами, дурным настроением. Кролики желтоватые, как он, вызывали у него отвращение, от пятнистых он убегал, перед черными робел, ел только белых. Ха не знал с ним покоя. Но случались, все же, и отрадные моменты. Например, когда Ха самозабвенно расчесывал чудесную гриву заснувшего Джонни, тщательно вычищал его клыки, или рассматривал исподтишка огромную великолепную мошонку льва и даже держал ее в руке, наслаждаясь тяжестью львиной плоти. Существовала между ними и близость более явная, когда Ха усаживался на перевернутое ведро рядом с решеткой, голова к голове с Джонни, распростертым во всю длину клетки и смотрящим на своего повелителя широко открытыми сверкающими глазами. Ха всматривался в оба его глаза, поочередно то в один то в другой, и вел со львом длинные разговоры. Ха отвечал за состояние этой туши и делал все, что от него требовалось.
Но вся эта естественная красота царя зверей меркла в тот самый момент, когда Ха смотрел на Ча. Как он завидовал поднебесным полетам Ча! Вот это настоящая сила. Повелевать самим собой, а не каким-нибудь львом.
Вот так Ха и рыдал всегда на представлениях Ча. И к тому же, этот красный зонтик – сердце Ха выскакивало из груди; вершина загадочного духа Ча, вся его гениальность запечатлелась в розовом ареоле быстрого вращения.
Но Ча думал по-другому. Ча завидовал Ха.
По правде говоря, виртуозы подобные Ча завистью не отличаются. Они заняты с утра до вечера изматывающими тренировками, а в оставшееся время так измождены, что у них нет сил завидовать кому бы то ни было или чему бы то ни было. Как правило, это люди замкнутые, счастливые и безразличные. Но Ча был акробатом особенным. Он был внимательным и чутким до крайности задолго до того, как прослыл таковым в глазах восторженных зрителей вследствие своей инвалидности. Нет, он родился другим. И он, Ча, смотрел на Ха, смотрел на льва Джонни, и испытывал к ним обоим особые чувства. Он преклонялся перед отвагой Ха в клетке с хищниками, наблюдал день за днем над их безысходным отчаянием, и его сердце сжималось от сострадания.
Но сострадание приходило и тут же сменялось глубокой завистью. У Ха был его красавец друг, шикарный, большой и теплый лев, тогда как он, Ча, что он такое? Всю свою жизнь только и делает что мечется между стульями на безумной высоте. Малейшая ошибка – и он разобьется вдребезги. Даже вне представлений не было у него настоящего отдыха. Уравновеситься на куче стульев, балансирующих на бутылках – в этом заключалась его жизнь, жизнь с постоянно растянутыми мышцами, воспаленными сухожилиями и бессмысленной борьбой с реквизитом. Для того, чтобы разогнать скуку, Ча придумывал новые способы балансирования на своих жердочках. Если бы только существовала другая возможность… но Ча имел особенность забывать всё то, что уже умел делать, а потому должен был постоянно изобретать новое. Изобретения доставляли Ча временное облегчение, да и восторги публики помогали притупить ощущение того, что жизнь его – и не жизнь вовсе.
Вершиной абсурда был маленький красный бумажный зонтик. Ча его ненавидел. Способности придумывать новое недостаточно – утверждал хозяин цирка – люди ожидают чуда. Разнообразие трюков – это для тебя, а зонтик для зрителей. Он требовал его наличия в каждом представлении. В дополнение к ноющим мышцам, от нелепого упражнения язык Ча болел и зачастую покрывался язвами. Нет, такой жизни он никому не пожелал бы. Ча завидовал способности Ха дружить со своим львом и вообще с животными. Завидовал тому, что Ха был от природы заботливым, что мог усыпить своего льва историями, что ходил из клетки в клетку и ухаживал за другими зверями, что так красноречиво разговаривал со всеми встречными… Ча думал: тот, кто как Ха, способен наблюдать за животными с таким абсолютным вниманием, кто готов и желает посвятить этому всё свое время – сверхчеловек.
В конце концов Ха и Ча разругались. Всё началось с простого спора, а закончилось дракой. И тогда Ха в доказательство своей теории, предложил гениальному, по его мнению, и обладающему абсолютным самообладанием Ча зайти в клетку Джонни и продемонстрировать всем и каждому скрытое превосходство тонкой человеческой души над тупым равнодушием животного.
Ха уже собирался втолкнуть Ча в клетку льва, но это оказалось излишним. Возбужденный спором Ча не замедлил зайти туда без чьей-либо помощи и меньше чем через минуту расстался со своим правым предплечьем, которое обрело независимость на нижнем правом клыке льва Джонни.
И вот что было дальше: обуреваемый чувством вины и желающий себе незамедлительной смерти, Ха ворвался в клетку с такими дикими воплями, которые испугали даже готового к самому страшному наказанию Джонни; как будто размышляя выплюнуть руку или проглотить, тот лежал покорно, сжавшись до предела, с широко открытой окровавленной пастью и с выглядывающей из нее, нанизанной на клык, рукой Ча. Лев уставился своими круглыми глазами на бушующего дрессировщика, который засунул свою голову, а затем и всю верхнюю часть тела, во львиную пасть, и сквозь потоки слез приказал ему сомкнуть челюсти. Джонни не послушался. Ха закричал второй раз во все горло в пасть испуганного льва. Джонни не послушался. Ча, стонущий от боли и сотрясаемый в припадке дикого смеха, заполз в клетку, вытянул оттуда Ха и потерял сознание.
Руку спасти не удалось. Джонни, испуганный и обиженный, сжевал и проглотил ее вместе с рукавом.
Ха ухаживал за Ча во время выздоровления и помогал ему отрабатывать новые трюки. Однорукий Ча удвоил количество стульев и бутылок в своих башнях, возведение которых на огромную высоту требовало немалой изобретательности. Когда в конце концов Ча возобновил свои выступления, они оказались еще более сложными и захватывающими дух, чем прежде. От зонтика удалось наконец-то избавиться. Настоял на этом сам хозяин цирка; во имя чистого искусства! К тому же Ха удалось убедить его прикупить львицу для Джонни. Спаривание прошло удачно. Джонни стал менее сонным и более свирепым. Прошло совсем не много времени – и львиная клетка заполнилась бодрым семейством хищников, довольно опасным, хотя и потешным. Ха руководил всем происходящим с удивительным мастерством и его собственный номер также стал еще более оригинальным и рискованным.
Лев, кролики, кровожадные дети, позолоченные рисовые зерна и неистовая публика, новшества и усовершенствования, подарки, скидки и льготы – всё это тоже произошло на самом деле.
ПЕРЕВОД С ИВРИТА: МАША ЗУСМАН
Меир Иткин: КОГДА НАВЕРХУ
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 19:23КОНДИТЕРСКАЯ «БЛИНДЕР»
На улице а-Халуц, недалеко от моего дома, прямо напротив замызганной одежной лавки «Лондонская мода» расположена маленькая кондитерская, и если я когда-нибудь покину Хайфу, наверное, она будет мне сниться, как снятся до сих пор советские буфеты, по которым я блуждаю, заходя в нечистые залы с полупустыми витринами — песочное кольцо, вареное яйцо, полстакана сметаны. Почему-то именно из них слеплен скелет моего смешного «я», призрака девятилетнего мальчика, заглянувшего в кулинарию, в нерешительности топчущегося перед подносом сахарных коржей в форме олимпийских мишек.
Кондитерская называется «Блиндер», это же и фамилия горбатого старичка с седой бородой в затертом до дыр белом халате и черной бархатной кипе, к которому я временами захожу купить киндль — рулет с тертыми орехами, сахаром, вареньем из розовых лепестков и тихим убаюкивающим вкусом, который мой сын определил как «вкус чая с молоком».
В кондитерской тесно, неряшливо, там все время толкутся бедные ортодоксы, желающие задешево купить лапшичный кугель или сладости для детей. Я никогда не видел, чтобы эти люди заходили через парадный вход, почему-то только через заднюю дверь, будто появлялись из нарисованного очага.
Все верно, по дороге на работу я наведывался сюда за киндлем или за яблочным пирогом, распухшим от начинки, из нежного слоеного теста — обычно не выдерживал и съедал половину сразу же. Из раза в раз я говорил господину Блиндеру «шалом», пытаясь придумать что-то более вразумительное, стать своим, войти в нарисованный очаг, чтобы попасть туда, где рождается киндль, но легче зайти в книгу, чем попасть в тайный мир правоверных творожных запеканок, кугелей, плетёнок с изюмом и корицей.
Самое чудесное и самое бредовое в кондитерской «Блиндер» это, конечно же, торты, если их можно так назвать, без единого намека на изящество — огромные уродливые на два килограмма кубы шоколадного цвета с корявыми буковками из белой сахарной глазури — «Мазаль тов», на все случаи жизни.
Иногда за прилавком стоит жена господина Блиндера, подслеповатая старушка с пуховым, несмотря на жару, платком, а иногда его внучка, и даже правнучка, угловатая десятилетняя девочка в черном платье и белых заштопанных колготках.
Если бы мне было девять лет, я смотрел бы на неё с улицы через стекло, хотя всё моё внимание, конечно же, было бы приковано не к ней, а к этому уродливому коричневому чудовищу с шоколадными подтеками и кривыми белыми буквами. А может быть, и к ней, не знаю. Я бы прикоснулся к стеклу носом, и водил бы пальцем по запотевшей поверхности, рисуя неясные каракули.
Я стою рядом с входной дверью и не решаюсь зайти. Я не знаю, что сказать им — старику, пожилой женщине, девочке. Ясно же, что я пришел сюда не за киндлем и не за яблочным пирогом. Я боюсь, что они не поймут меня, примут за сумасшедшего. У нас слишком разные сны. Не рассказывать же ему, в самом деле, как папа меня, трехлетнего, водил в блинную, расположенную в подвале дома на Морском проспекте (она давным давно исчезла, и даже старожилы её не помнят), и как из грохота и поварской суеты на нашем подносе появилась тарелка с блинами, политыми сметаной и мёдом. Я не объясню, что тогда мы были по-настоящему вместе, он держал меня за руку и открыл мир (подземный мир, полный блинов и мёда).
Я топчусь у входа, а потом всё-таки открываю дверь, и говорю, как всегда: «Здравствуйте, господин Блиндер! Мне, пожалуйста, яблочного пирога на двадцать шекелей». Старик заворачивает пирог в хрустящую пергаментную бумагу. «Двадцать три шекеля». «Но у меня с собой только двадцать». «Ничего, принесешь потом».
И вот, через неделю, я вновь захожу в кондитерскую, сжимая в кулаке две монетки. «Шалом, я должен вам три шекеля». Оглядываюсь. Да у них тут заседание! Старый рав с белой пушистой бородой и в черном плаще (тросточка прислонилась к витрине с кугелем) с аппетитом поедает запеканку, вся борода в крошках. Тут же угощаются его внуки. Девочка заходит из «нарисованной» двери с подносом, на котором дымятся завитушки с изюмом.
Кондитер берёт у меня три шекеля и кладет их в мешочек. «Какие у тебя порядочные клиенты», — усмехается госпожа Блиндер.
ХОНИ
Подъезд в нашем доме как винтовая лестница в башне, и когда вечером, подсвечивая ступени телефоном, я поднимаюсь на четвертый этаж, моими попутчиками часто становятся бражники и совки. Я останавливаюсь, чтобы отдышаться, и направляю светящийся экран на стену, где в белом круге горбится еврей в черном сюртуке, с лимонно жёлтыми волосами, будто бы выкрашенными дешевой акриловой краской. Белый круг не имеет отношения к свету, который излучает телефон — просто художник так выделил фигурку на темном фоне, где и так уже полным полно разных обитателей.
Я не верю в Бога, и не боюсь упоминать его имя, когда мне вздумается, но всегда мысленно рисую окружность, центром которой являюсь, и помещаю в нее своих родных. Иногда я ошибаюсь в темноте лестничным пролетом и упираюсь в чердачную дверь. Сегодня так и случилось, и я, открыв ее лёгким прикосновением, продолжал подниматься — над плоскими крышами, мимо ливанских кедров, балконов, фиолетовых, красных и оранжевых тряпиц, висящих на бельевых верёвках. Запыхавшись, я свернул на тихую улочку и присел у стеклянного дома, в котором лестница между этажами располагается не внутри, а снаружи, и вместо спертого воздуха темного подъезда, чувствуешь свежую уличную темноту, уходящую в просветы резных теней решёток, листвы и фонарей.
Поднимаясь по этим ступеням, скорее уж столкнешься не с бражниками, а с летучими мышами, но сегодня я их не встретил, видимо, из-за Суккота — повсюду были расставлены дощатые коробки, внутри которых мигали желтые гирлянды.
Я шел вперед и через каждые два-три дома замечал лестницы, с котами на ступенях, ведущие вниз, каждая в свой мир, в свою окружность. По одной из таких лестниц я и решил спуститься, наобум, по сухим шуршащим листьям.
Я шел вниз, и моя тень опережала меня на несколько шагов. В глубине дома заплакал ребенок. Я дошёл до фонаря, прицепленного к пальме с мохнатым стволом, и сел за пределы круга, очерченного фонарным светом.
ЛАБИРИНТ
Однажды вечером я постучался к соседу, чтобы вернуть ему ключ от дворика сo счетчиками и выходящими из них ржавыми водопроводными трубами разной длины, будто бы органными. Потолки в подъезде огромные, метров пять, стены увешаны картинами в позолоченных рамах. Массивная деревянная дверь с арабской вязью на приветственной табличке приоткрыта – я вижу угол кресла, покрытого красным бархатным пледом, расшитым вручную золотой нитью, край стола с тяжелой красной скатертью, изображение возносящегося среди блёсток Иисуса и вазу с букетом искусственных цветов. На стук никто не реагирует — я подозревал, что мой сосед глуховат, но не думал, что настолько.
Тихо захожу в квартиру. Вот он, Андреас Маруни, в летнем костюме, причесывает щеточкой седые усы и фиксирует их воском, не обращая на меня никакого внимания. В его круглых очках отражаются фотографии, развешанные в строгой симметрии вокруг зеркала. На них многочисленные братья Андреаса. Все они в шляпах, праздничных костюмах, у каждого из них подкрученные усы, точно такие же, как у самого Андреаса.
Он берет из вазы несколько цветов и ставит перед портретом покойной жены. Щеточка для усов остаётся лежать на скатерти. Портрет снят на Polaroid, изображение нечеткое, немного смазанное: жена Андреаса сидит в кофейне на Вади-Ниснасе и смотрит с лёгким испугом или недоумением в камеру. Хоть фотография черно-белая, на лице женщины виден переизбыток макияжа. Позади можно разглядеть группу стариков, раскуривающих наргиле, а за ними мужчину в светлой рубашке, открывающего настежь дверь кофейни и выходящего в темноту.
МУХАММАД АБУ-ЛЬ-ХАЙР
Р. К.
Другой мой сосед, Мухаммад Абу-ль-Хайр, говорит: за белой стеной и оконной фиолетовой рамой скрыто дерево с огромной шапкой сиреневой кроны, и оно с каждым цветком возвращает Мухаммада в мечеть Шринагара, к тени под платаном. Бесконечный узор. Очевидно – так он думает, наступая на лепестки и осколки, – что обыкновенное, если его столкнуть с настоящим, исчезает из памяти. Очевидно – так он думает, – что настоящее есть. Затем он приходит к опасному выводу, будто бы мысль о платане совместима с осколком, и ничто не исчезнет: останется дерево, рама, на полу – невзрачный узор. Или нет: важный к неважному, лепесток и осколок, вместе получается сильная и слабая доля. Ритм дарбуки – ударного, правды, и безударного, лишённого сущности. Глубокого долгого, и короткого, который является необходимым условием. Ритм быстрее, сложнее. Пульс, удар, цезура, молчание. И тогда Мухаммад Абу-ль-Хайр понимает, что стоит в тишине, в полуразрушенном доме, посреди лепестков, что скрывают грязный кафель с османским орнаментом. Всё имущество продано, а окно с сиреневой рамой забито крест накрест.
НА ОБОЧИНЕ
Ночь. Я стою на балконе, почти на крыше нашего огромного нелепого ассиметричного и любимого каменного дома. Через железную дорогу от меня католическая церковь святого Габриэля и несколько крошечных переулков, а за ними — порт. Из церковного двора (в храме из-за карантина службы нет) выехала пасхальная машина с цветами и крестом, из нее слышится громкое, глубокое, невероятно красивое пение — всенощная литургия на колесах. Все это похоже на похороны, но без страха. Машина подъезжает к каждому дому и на немного останавливается. Люди с балконов машут руками священнику в машине. Темнота, фонари, золото, накрапывает дождь.
В это же время молодой хасид идёт по обочине трассы, прижимая к груди бархатную подушку, коричневую, со словами из Торы, вышитыми золотом. Мне кажется, в голове у него пусто; все, что он чувствует, ушло в кончики пальцев. Трансформация желания любви, теплоты, общения, собственной нужности (ощущения в груди, в паху, в животе: чувство существования) — всё это ушло в осязание. Подушечкой пальца он придавливает бархат, на миллиметр проваливается в него и летит, летит.
Пинхас Саде: КРАТКОЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ О ПОРАЖЕНИИ И ВИНЕ
In ДВОЕТОЧИЕ: 35 on 12.02.2021 at 18:57И был день, (так начинается повествование о Йосефе дела Рейна, который был, если вообще был, цфатским каббалистом 15-го века, наиболее точная версия которого приведена, по всей видимости, Шломо Наваррой, крестившимся впоследствии иерусалимским каббалистом 17-го века), поднялась к сердцу его горечь изгнания, а более всего горечь изгнания Шехины. И было у него пять учеников… и сказал им: «Послушайте меня, сыновья мои, установил я в сердце своем, что совершим деяние…»
И повелел он ученикам своим очиститься и сменить одежды, и отдалиться от женщин, и вышел вместе с ними в поле. Там расположились они возле могилы рабби Шимона Бар Йохая и молились всю ночь. И «незадолго до рассвета задремали, и во сне пришел Рабби Шимон Бар Йохай к Рабби Йосефу и сказал ему: «Зачем возложил на свою голову столь тяжкое бремя, тяжелее того, что ты можешь вынести?»» На что ответил ему рабби Йосеф, что нет у него других намерений, а только лишь воля небес, и потому надеется он на помощь Всевышнего. Утром же поднялся и пошел с учениками в Тверию, «в один лес», и перед наступлением вечера поднялся рабби Йосеф молиться, с плачем и стенаниями и в великой святости, чтобы спустились к нему с небес ангелы и пророк Элияху, и рассказали ему, как поступать. И было, “вдруг появился перед ним пророк Элияху” и спросил о его просьбе, и когда услышал он, то, что услышал, то и его ответом стало “бремя это тяжело очень”, и посоветовал рабби Йосефу оставить все как есть, поскольку “Самаэль и слуги его многочисленны и не осилить тебе их”.
Но рабби Йосеф упорствовал и не соглашался с ним, и Элияху выслушал его и повелел ему и его ученикам оставаться в поле, отдалиться от людей и поститься двадцать один день, чтобы “посредством этого смогли бы они предстать перед ангелами”. По прошествии этого времени спустился к ним ангел Сандальфон во главе своего воинства “в великом пламени”. Рабби Йосеф, оправившись от страха, поприветствовал и благословил ангела и спросил у него, “какую войну провести ему с Сатаной, чтобы вознести к первой славе святость? Сандальфон восхвалил его за столь благие намерения, и сказал ему, что “все ангелы и серафимы и святые воинства также жаждут избавления”, но, касательно войны с Самаэлем, только лишь двум ангелам, Акатриэлю и Метатрону, известно, как возможно его победить, но ужасно величие их “и ничто сотворенное не способно вынести лики этих ангелов”. И по мнению Сандальфона, поскольку не струсил Рабби Йосеф, то он советует ему и ученикам его продолжать аскезу еще сорок дней и молиться о том, чтобы была дана им сила вынести этих ангелов. После того, как удалились ангел и воинство его, поднялся Рабби с учениками и отправился в пустоши, и там, в одной пещере, оставались они в посте сорок дней. И в том же месте нашли они реку и омывались в ней ежедневно.
“Когда же наступил сороковой день, время дневной молитвы… и был шум великий и раскаты грома, и раскрылись небеса, и спустились к нему ангелы и воинства их…”. От ужаса пали Рабби Йосеф и ученики его ниц, но ангел Метатрон коснулся его и спросил: “Для чего ты спустил нас?” С сомкнутыми веками, объяснил ему Рабби Йосеф, то, что объяснял прежде, и вновь услышал, что “дело это тебе не по плечу”, и еще сказали ему ангелы: “Ты человек, и все, что сделано тобой до сих пор, предстанет перед Всевышним и будет зачтено им, поскольку намерение твое благородно очень, но время его исполнить еще не настало…” И вновь просил их Рабби Йосеф, и стоял на своем, и так говорил: “Вы, святые ангелы, и истинны слова ваши, но когда вспоминаю я об изгнании Шехины, горит сердце мое в груди моей, и потому я сделаю то, что смогу, а Всевышний, благословен Он, поступит так, как пожелает”.
Когда услышали слова эти Акатриэль и Метатрон, то согласились помочь ему и открыли ему, что все, что сделает он в нижнем мире, то же совершит душа его в верхнем, и добавили: ”…и когда подойдешь ты к горе Сеир, атакует тебя огромная стая черных собак, они то и есть Самаэлевы слуги… а вы не бойтесь их, а только вспоминайте святые имена, и побегут… и подойдете вы к снежной, огромной, до небес, горе, и тогда вспомните вы имена и гора растает, и оттуда подойдете вы к морю-океану и вспомните имена, и высохнет море, и перейдете его. И оттуда вы выйдете к железной стене, тогда возьми нож и напиши на ней: “вот имена…”, и возьми нож, и прорежь в стене подобие входа… и оттуда вы подойдете к горе… и приготовь себе два свинцовых листа, и на каждом выгравируй святое имя, и когда подойдете вы к горе, то там найдете Самаэля и жену его в виде двух черных псов, самца и самки, и положи на головы их пластины, и свяжи их шеи железной цепью, и веди их до горы Сеир, и тогда затрубят в великий шофар, и Мессия раскроет себя. ”И особенно предостерегали ангелы Рабби Йосефа ни в коем случае не жалеть этих псов, “и даже когда заплачут и закричат, чтобы дал ты им хоть что-нибудь съесть и выпить, не слушай их, ибо они тебя не послушают…”
“После всего этого вернулись ангелы на небеса”, а Рабби Йосеф отправился в путь вместе с учениками, и было так, как сказали ему: стаи псов побежали, гора растаяла, море высохло, а в железной стене прорезался вход. “И отправились оттуда на гору, и нашли там множество разрушенных и покинутых домов, и зашли в один из них, и там обнаружили двух черных псов, самца и самку… и когда увидели псы, что заключено их зло в цепи, то обернулись они людьми с крыльями, исполненными очей, и начали кричать и просить, чтобы дали им поесть, но рабби Йосеф не хотел их слушать.
И здесь подходит эта цветастая и ужасная история одновременно к концу и к катарсису, и так нам рассказывают: “и шли они по полям оттуда в великой святости и радости, и сияли их лица яростным огнем, а Самаэль и жена его плакали… и когда подошли они уже близко к горе Сеир, преисполнился к ним жалости рабби Йосеф и дал Самаэлю вдохнуть в ноздри запах ладана, и как только услышал он запах ладана вырвалась вспышка пламени из ноздрей его… и сожгла ладан, и когда поднялся дым ладана к его носу, вернулась к нему его сила, так как представил он это, как будто вознесли ему жертву, и через это обрел силу и оторвал от себя листы с именами и железные цепи, и воссоединился со своим воинством, и загремел вместе с ними, и двое из учеников рабби Йосефа были убиты, а двое сошли с ума. И остался лишь рабби Йосеф с единственным учеником, и нахлынула на них тошнота от страха и ужаса перед Самаэлем. И в это же время покрылась вся гора языками пламени и поднялся дым с нее до небес, и спустился голос с небес и прокричал: “ Горе тебе, рабби Йосеф! И горе твоей душе!.. Почему не послушал ты ангелов, что завещали, что не будет тебе милости от него. Вот смотри: сегодня не смилостивился он над тобой, и преследует тебя, и выживет тебя из этого мира и лишит будущего.” И таков конец — Рабби Йосеф переселился в Цидон, где отверг бога Израиля, из-за горя, его одолевшего.
И поскольку таковы события, произошедшие с Рабби Йосефом дела Рейна, есть те, кто считает, что его и не было вовсе, хотя вот, например, по мнению Г. Шолема, это “личность историческая, умершая в иудейской вере”. Что касательно “смерти в иудейской вере”, то, в соответствии с нашей версией, дело было совсем не так, и не только то, что уже сказано, а также и то, что женился он на Лилит и в конце покончил жизнь самоубийством. Так или иначе, около сотни лет спустя, случилось, тоже в Цфате, событие, которое несмотря на то, что по степени величия и красочности, не выдерживает сравнения с историей дела Рейна, но обладает, тем не менее, некоторым сходством в сути. Герой второй истории — АРИ. “Однажды вечером, незадолго до наступления субботы” (так начинается короткий рассказа в книге “Восхваления АРИ”)” Вышел вместе со своими учениками из города Цфат, чтобы встретить субботу, одетый в четыре одеяния, белого цвета, и посреди песнопений спросил у учеников: “Друзья мои! Хотите пойдем к Иерусалиму перед наступлением субботы и проведем субботу в Иерусалиме? (А Иерусалим отдален от Цфата более чем на 25 лиг). И несколько учеников ответило: “Нас это устраивает!» А часть сказала: “Мы отойдем и предупредим наших жен” … И затрясся рав в великом страхе, и хлопнул в ладоши, и сказал: “Горе нам, что не довелось нам обрести избавление! Ведь если бы все вы готовы были пойти со мной в радости, тотчас же был бы спасен весь Израиль, ведь именно сейчас был тот момент…!”
Так заканчивается эта история. А привлекла меня в этом достаточно известном повествовании одна мелкая деталь, а именно то, что, в соответствии с определенной традицией, эта история случилась неподалеку от могилы Йосефа дела Рейна. То есть вновь повторились здесь та же попытка принести избавление и то же провал. В первом случае – провал из-за милосердия, во втором – из-за нерешительности, но в обоих случаях поражение произошло из-за внутреннего недостатка, из-за ошибки. Добавлю только, что в соответствии с той же традицией, предстала перед АРИ душа Йосефа дела Рейна и попросила исправления. Однако я не вижу, чем же мог АРИ помочь Йосефу дела Рейна, ведь оба они – братья по провалу.
И можно было бы сказать, что в случае АРИ, в отличие от случая дела Рейна, не он сам, а ученики его виновны в провале. Тем не менее, и здесь я приближаюсь наконец к сути моего вопроса к обоим рассказам, в этом сопоставлении нет смысла, поскольку именно он – тот, кто потерпел поражение и нет никакого смысла перекладывать ответственность на ближнего, кем бы он ни был: мужчиной, женщиной, богом или судьбой. Другими словами, основа вины – поражение. Чтобы разъяснить свои слова, я приведу крайний пример. В соответствии с законами людей, именно убийца виновен в смерти убитого. Тогда как по законам природы убитый сам виноват в своей смерти, поскольку это ведь его забота – не быть убитым. И его смерть – не что иное как наказание за поражение, и не так уж важно, что из них следовало раньше, поскольку оба они существуют одно в другом. Более того, если потом будет схвачен убийца и приговорен к смерти, то, по законам природы, он будет убит не из-за своей вины в том, что совершил убийство другого человека, но только потому, что позволил себя убить.
Понятия человеческого права, в тени которых всегда живет человек, действительно существуют, но только лишь в нескольких ограниченных областях, таких как имущественное и административное право (впрочем, и эти области недействительны во время войны, революции и т.п.) Но то, что касается основ жизни, то есть все, что касается настоящего момента, места в потоке времени, любви, разочарования, превратностей судьбы, существования перед лицом смерти – во всем этом человек погружен в то, что я назвал законом природы или бытия.
В соответствии с этими законами, которые, по всей видимости, находятся вне юрисдикции разума, с которыми нельзя вести переговоры, каждый человек сам по себе, вдвоем с собой, одинок, ответственен (или, и это, в общем, то же самое, не имеет никакой возможности нести ответственность) за себя, виновен (или может быть вследствие своей неспособности, неспособен также принять вину) во всем, что с ним происходит.
И тогда, когда происходящее с ним невыносимо или даже просто очень тяжело, человек стремится в своей боли поделиться виной со своим ближним, кем бы он ни был. Человек из толпы, тот, к кому применимы понятия психологии и социологии, стремится переложить вину на родителей, на недостатки образования, на душевные травмы, приобретенные еще в младенчестве, на социальные и экономические обстоятельства, на некоего мужчину или некую женщину, вовлеченных в эти обстоятельства, и тому подобное. Человек исключительный, живущий, как будто это само собой разумеется, в прямом контакте с божественным, тот, для кого сень Всевышнего навсегда стала смыслом и вкусом жизни, тот попытается обвинить бога. Ощущение катастрофы, от того, что им распорядились так ужасно, горе так велико, потеря столь невосполнима и столь безутешна, разочарование столь сильно, что невозможно удержаться от обвинения в адрес того, кто ответственен за все, то есть, бога”. И Рабби Йосеф переселился в Цидон, где отверг бога Израиля, из-за горя, его одолевшего”.
И хотя он и совершил ошибку, но это была человеческая ошибка, и в случае Йосефа дела Рейна, этот человек ожидал от бога, что у того, быть может, осталась для него хоть малая толика милосердия, и тот избавит его от последствий ошибки. То есть, воспользуется, хоть в этот раз, своей великой мудростью, хоть каплей этой великой, бесконечной, мудрости, сделает что-то, что будет ему угодно, что исправит сделанное по ничтожному разумению, или, скорее, глупости, человека. К этому же относится понятие «божья милость». Ведь разве не проявил этот же человек милосердие к самому Сатане, когда тот умолял и плакал, и не выходит ли так, что милосердие небес меньше милосердия человека? Не получилось ли в этой истории так, что господь проявил себя так же, как лишенный милосердия дьявол? Предположим, что бог не слушает молитвы человека в нужде, что он не видит его, или в соответствии с теми словами, которые Гете вложил в уста Прометея:
Мне — чтить тебя? За что? Рассеял ты когда-нибудь печаль Скорбящего? Отер ли ты когда-нибудь слезу В глазах страдальца?
И не выходит ли так, что бог, по выражения Аль-Газали, мусульманского теолога: “ Не сотворил ничего менее похожего на себя, чем этот мир, и после сотворения не пожелал удостоить его даже взглядом”?
И если так, не получается ли, что бога нет, то есть, бог не обладает никаким человеческим смыслом? И не это ли объяснение тому, что Рабби Йосеф, придя в Цидон, там “оставил бога Израиля”? Оставил не в том смысле, что предъявлял ему претензии, как в свое время Иов, а в том, что усомнился в его существовании.
Но и на этом его история не закончилась. Поскольку после того, как он обвинил того, кого обвинил, дела Рейна остался, в конечном итоге, с тем, на ком лежит окончательная вина, то есть с самим собой. Он женился, в соответствии с одной из версий истории, на Лилит, то есть на той, кто появилась перед ним в образе “черной собаки” (но изначально он не любил ее, он любил Шехину, и желание его было “возвысить ее до первого престола”), и сделал это, быть может, только ради того, чтобы насколько возможно отдалиться от бога. Но от самого себя он отдалиться не смог, и потому остался, в конечном счете, с самим собой и понял, что нет никого, кто мог бы разделить с ним его вину, и это то, как я понимаю его самоубийство.
И быть может кто-нибудь скажет, что такой ход мыслей и стремлений души невозможен ни у кого, кроме мифического персонажа, каковым и является дела Рейна, или у какого-нибудь героя книги Бытия, то есть, у человека, находящегося или считающего, что находится в связи со Всевышним, человек начинающий с богом судиться и спорить, уповающий на него и впоследствии ошеломленный его молчанием. Такой человек, скажет кто-нибудь, может быть святым или юродивым, но он, конечно же, не обладает и толикой здравого смысла. Однако он не стал бы так говорить о другом еврее, жившем на два столетия позже дела Рейна, — о Барухе Спинозе. Но разве не Спиноза осуждал сожаления и раскаяние сами по себе, и даже считал их изначально неоправданными, поскольку вещи вынуждены быть такими, какие есть, так как “ невозможно даже для бога не совершать действий, которые он совершает”, из чего следует также, что невозможно для него совершать вещи, которые он не делает, то есть, что-то не включенное в изначально сотворенный космос. И потому нет смысла в том, чтобы человек хоть в чем-то уповал на бога. И даже, если бы мог бог обратить милосердие к нуждающимся, то зачем бы он стал это делать? Потому, говорит Спиноза, “невозможно утверждать, что человек любим богом”. Контекст, в который помещена эта фраза (“человек со всем, что есть у него, помещается в боге”), не прибавляет и не уменьшает, не добавляет ни капельки тепла или оттенка к этим остывшим и выцветшим, как лед, шести словам: “невозможно утверждать, что человек любим богом”.
Ничего подобного не было во всей иудейской теологии, со времен первой главы Бытия. И об этом можно сказать, как минимум, что среди всех иудейских теологов, и в этот список следует включить всех праотцев, пророков и таннаев, Барух Спиноза был единственным, в отношении которого не могли сказать пленники Аушвица, в тот час, когда возвели глаза свои горе и не увидели ничего кроме кранов с газом, что вводил их в заблуждение, что породил в их сердцах напрасную надежду, что обманул их.
И я спрашиваю себя в тот час, когда сижу здесь перед этим белым листом и пишу эти строки, что было причиной, что могло быть причиной приведшей молодого Баруха Спинозу (все сказанное выше приведено из короткого трактата «О Боге, человеке и его счастье», его первого философского сочинения) к такому рассуждению, к таким словам. Было ли это всего лишь логической последовательностью? Но логика не навязывает себя человеку; она порождается его душой. Что творилось в его душе в то время, что он сидел в своей одинокой ночной комнате в Амстердаме? Чем была его жизнь, его любовь, его горе? Об этом известно очень немногое, и ничтожно мало известно нам о его, по всей видимости единственной, любви – ею была Альма Ван ден Энде, дочь его учителя латыни. Оная Альма, одолеваемая сомнениями, в конечном счете, вышла замуж за того, чье финансовое благополучие превосходило финансовое благополучие бедного философа. И задав себе этот вопрос, я подумал, что, быть может, именно в одну из таких ночей, в своей комнате, Барух Спиноза говорил богу: коль скоро я предстал перед фактом твоей нелюбви, или, в лучшем случае любви интеллектуальной, так и моей любовью, отныне и впредь, станет любовь к интеллекту, Amor intellectualis dei, пусть будет она такой, какой будет, но только такой, какую я сумею доказать, подобно геометрическим доказательствам, взвешенным и выверенным, ведь не из-за жестокосердия или из-за той дикости, что приписывается тебе Библией, ты поступаешь так, как поступаешь, но потому, что для тебя невозможно поступать по-другому, и природа вещей такова, какова она есть.
Но вернемся в Цфат, за сотню лет до ночи в Амстердаме, к той пятнице, в которую АРИ с учениками ожидали наступления субботы. Я уже говорил, что не вижу смысла в утверждении (за которое сам АРИ в тот же момент ухватился), что в его поражении виноват не он сам, а его ученики. Ущербность их душ следует воспринимать как его ущербность, их неудача – его неудача, их вина на нем, и не подобает АРИ принимать жалкую позу женщины, утверждавшей “змей обольстил меня”. Однако это уже было мной сказано, а тот вопрос, в который я приглашаю сейчас углубиться, хоть сколько-нибудь, это вопрос о природе поражения.
Мне представляется, что поражение известно каждому. Я говорю не столько о конкретном опыте поражения, подобном приведенным выше примерам, или же о том или ином переживании поражения. Я говорю о специфике жизни. Несмотря на то, что достаточно единичного опыта, единственного переживания, случайности – а может быть, и не случайности вовсе? – одного-единственного мгновения, для того чтобы под человеком пошатнулся весь его мир. “Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика – и дела уже не поправишь!” – завершает свой рассказ о случившемся с ним в кошмаре сельский врач Кафки, а в другой истории того же писателя достаточно было лишь случайного удара в ворота, для того чтобы привести героя к гибели. В истории, рассказанной в первую из тысячи и одной ночей, купец во время трапезы отбрасывает косточку на дорогу в пустыне, тотчас же появляется перед ним грозный ифрит и говорит ему: «Вставай, я убью тебя, как ты убил моего сына!» – «Как же я убил твоего сына?» – спрашивает купец. И ифрит отвечает: «Когда ты съел финик и бросил косточку, она попала в сердце моему сыну, и он умер в ту же минуту». Событие сходной природы происходит со старым мореходом в поэме Кольриджа. Однако, в соответствии с тем, что я уже сказал, я намереваюсь говорить о специфике жизни. Допустим даже, что чем сильнее чувство призвания, тем сильнее затем чувство поражения. Когда я пишу эти строки, мне в голову приходит имя Моше – человека, которого “Господь знал лицом к лицу”. Каковы же были его мысли, что он мог чувствовать, стоя в свой последний день на горе Нево, после того как его скромная просьба (“и взмолился я господу…” – его собственные слова) не была услышана? Вспоминается мне также имя Йешуа – человека, жизнь которого последующие поколения наделили величайшим смыслом, когда-либо придававшимся жизни человека. Что же чувствовал он, распятый на кресте? В его устах не осталось никаких слов, кроме “Боже, мой Боже! Зачем ты меня оставил?” Тут мне вспоминаются слова из сборника воспоминаний о последних днях Наполеона: “Когда я закрываю глаза,” (он произнес это в один из тех дней) “все мои ошибки чередой проходят передо мной, как в кошмарном сне”. И однажды он рассказал об одном из своих школьных учителей, который относился к нему, к Наполеону, покровительственно, тогда как впоследствии судьба улыбалась Наполеону так, как мало кому вообще в человеческой истории. (Или, если бы я вдруг попытался говорить об этом несерьезно, я бы сказал: он был единственным во всей истории человеком, способным назвать себя Наполеоном и не оказаться в сумасшедшем доме). Но тогда он только спросил с сомнением: “Как вы думаете, узнал ли мой учитель о величии, которого я достиг со временем?” А в один из последних своих часов он очнулся от бреда и пробормотал: “Я видел Жозефину (свою первую жену), но она избегала моих объятий”. Приходит ко мне также образ Поля Сезанна, которому не обязательно было пользоваться словами – его автопортреты, особенно автопортреты последних лет, говорят за него. Например, на автопортрете 1900-го года можно видеть, что лицо колосса живописи, лицо человека, без которого современная живопись не была бы такой, какая она есть, выражает одиночество, покинутость, говорит о бесконечной грусти, горечи, почти отчаянии. Быть может только крестьянское упрямство спасло его от того чтобы, отчаяние обернулось сумасшествием. Но возможно у того, о чем я говорю, есть и другие стороны. Вот обратный пример: несколько лет назад, в зимний вечерний час, мне случилось проезжать на автобусе по улице Короля Георга в Тель-Авиве, и когда мы на несколько мгновений замешкались возле очередной остановки или светофора, я взглянул сквозь стекло, и взгляд мой привлек самый освещенный магазин. В магазине сидел продавец – здоровый человек, в расцвете лет, элегантно одетый и тщательно причесанный, и смеялся (может быть он сидел в компании кого-то, кого я не видел) без меры, нараспашку, с самодовольством, плещущим через край, пока сам он, как на сцене в красочных декорациях, был окружен множеством туалетных бачков всех оттенков пастели. Автобус продолжил свой путь под дождем, но даже дни спустя, я поражался, возвращаясь к этому образу.
Много лет назад я читал заметки о пожилом Гете (уже не помню где, быть может, у Эккермана), сказавшем, что все моменты счастья, если их соединить, сложатся, по его подсчетам, в не более чем две недели времени. Когда я прочел это, я возмутился. Возможно ли это? Гете? Человек, написавший в своей десятой римской элегии, что “Цезарь и Александр, великие Генрих и Фридрих” отдали бы ему половину своей славы за одну ночь на ложе его возлюбленной. Я, в то время стоявший, как нищий, на пороге жизни, даже тогда, как мне казалось, изведал большее счастье. И с тех пор, к тем годам юности добавились другие, и я пережил столько часов счастья, что если собрать их все вместе, наберется больше, гораздо больше чем 14 дней. Я знал такие мгновения, о которых, как мне кажется, говорил герой Гете: “Тогда сказал бы я: мгновенье! Прекрасно ты, продлись, постой!” Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön! Потому что ради них стоит оставить мир. Но ни одно из них не задержалось. Все они проследовали своим чередом, промелькнули, ничего по себе не оставив. Восстанавливая их в памяти, я пытался и не мог обнаружить знак ли, признак, малейший намек, отличающий эти мгновения от пережитых во сне, вычитанных в книге или прочувствованных в музыке. И мне кажется, что я понял слова Гете, одновременно с тем, что они снова, но теперь уже по-другому, непонятны мне: я не понимаю, как сумел он сберечь две недели мгновений, как он их сохранил. Где же та препона в сетях его времени, остановившая бег тех мгновений, собранных в две недели счастья, и какова ее суть? Я имел в виду все это, когда, рассуждая о природе поражения, говорил о специфике жизни.
Есть ли у поражения смысл? Для ответа на этот вопрос стоит, видимо, посвятить несколько слов строкам этого короткого сочинения. Для сидящих на унитазах в публичных туалетах – общественном, политическом и культурном – этого вопроса не существует вовсе. Но он существует – возможно, это единственный остающийся вопрос – для человека, способного сказать: “Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода”. (Хоть он и не говорил этого в тот момент, когда гвозди вошли в его ладони.) Или же человек, подобный Йосефу дела Рейна, которому в конце его дней, когда, по одной из версий истории, он женился на Лилит, возможно, подумалось, что, быть может, весь его жизненный путь и в особенности его поражение были нужны лишь для того, чтобы привести его в конце концов к лону Лилит, которая по всем мнениям, за исключением ее явления во временном обличье “черной собаки», считалась обладательницей необыкновенной красоты, царицей ночи, привлекавшей своими чарами сердца многих, и даже первый человек, Адам, по словам книги Зоар, был соблазнен ею и, согласно некоторым мидрашам, даже женился на ней.
В отступлении отмечу: я сознаю, что здесь я нечаянно написал о Лилит так, как будто бы она не творение фантазии и мифа, а женщина из плоти и крови, и хотя я с ней не знаком и не спал с ней, но несколько других смертных, вроде Адама и Йосефа дела Рейна, ее познали. Я не пытаюсь сам себя перехитрить. Я добавил это лишь для того, чтобы подкрепить сказанное выше, подтверждая, что для меня не осталось ни знака, ни знамения, способного различить между реальностью и сном или прочитанным в книге, или же услышанным в песне. И сейчас мифическая Лилит для меня не менее реальна, а на самом деле, даже более реальна, чем кто-либо из женщин, которых я знал в течение жизни, среди которых две или три обладали по настоящему мифической красотой. При этом, кто может утверждать, что та или иная из них никогда не была, хотя бы в некоторых своих проявлениях, в определенных ситуациях и в определенное время, возможно, даже не осознавая этого, демоницей или богиней? В одном из своих стихотворений, основанном на вполне реальных жизненных переживаниях, я написал:
Богиня появляется всегда в маске. Таков путь богов. По-другому они не могут.
Но это было только лишь отступление. А что касается третьего человека, для которого этот вопрос о возможности смысла в поражении, существовал (я говорю об истории произошедшей в вечер пятницы, в Цфате, об АРИ) – так вот, из поражения, из ощущения человеческой жизни как поражения, нарисовалась картина мира в его совокупности, как бытия в космическом поражении: сжимающаяся божественность, удаляющийся бесконечный свет, разбитые сосуды, падающие искры, поглощенные оболочкой, шаткая система сефирот, проваливающиеся вновь и вновь человеческие попытки исправления, первородный грех, вновь и вновь возвращающийся на круги своя – и так до будущего раскрытия некоторой допускаемой сущности, сводимой к понятию Мессии.
Таково, в нескольких словах, было его учение, и все же, я пишу не для того, чтобы приводить здесь слова книг и учений, потому что не вижу, как они относятся к человеку, погруженному в реальный опыт поражения, потери, боли. То же может быть применено и к самим этим словам, даже если этот человек наткнется на них. Ведь я знаю, что горе, хоть немного, но облегчает прогулка по парку, или, если есть к тому склонность – музыка, но не вижу, как и чем могут утешить читающего эти слова. И с этой точки зрения, данное сочинение представляет собой не что иное как сокрушительный провал.
Я написал это в определенный момент своей жизни, с тех пор прошло время. Теперь ночь, и несмотря на то, что зима в разгаре, веют теплые ветры, а на улице царит безмолвие, и в высоком окне моей комнаты отражаются образы ночи, пространства и звезд, и великого покоя. Я не знаю в точности, что это было: я проснулся ото сна и достал эти листы, и перечитал их вновь, и почувствовал, как меня охватило сомнение, и не прошло. Когда я дочитал до строк, которые Гете вложил в уста Прометея, я вспомнил другие строки, написанные им в другое время, и когда я их вспомнил, то не смог удержаться и записал их, и запись сумела выразить то чувство сомнения, которое я испытал по отношению к написанному на этих страницах. Вот эти четыре строчки – стихотворение Гете:
Всё даруют боги бесконечные
Тем, кто мил им, сполна!
Все блаженства бесконечные,
Все страданья бесконечные — всё!
И вот я привожу эти строчки также в оригинале:
Alles geben die Götter, die unendlichen,
Ihren Lieblingen ganz,
Alle Freuden, die unendlichen,
Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.
ПЕРЕВОД С ИВРИТА: ЗАХАР ЛЬВОВ