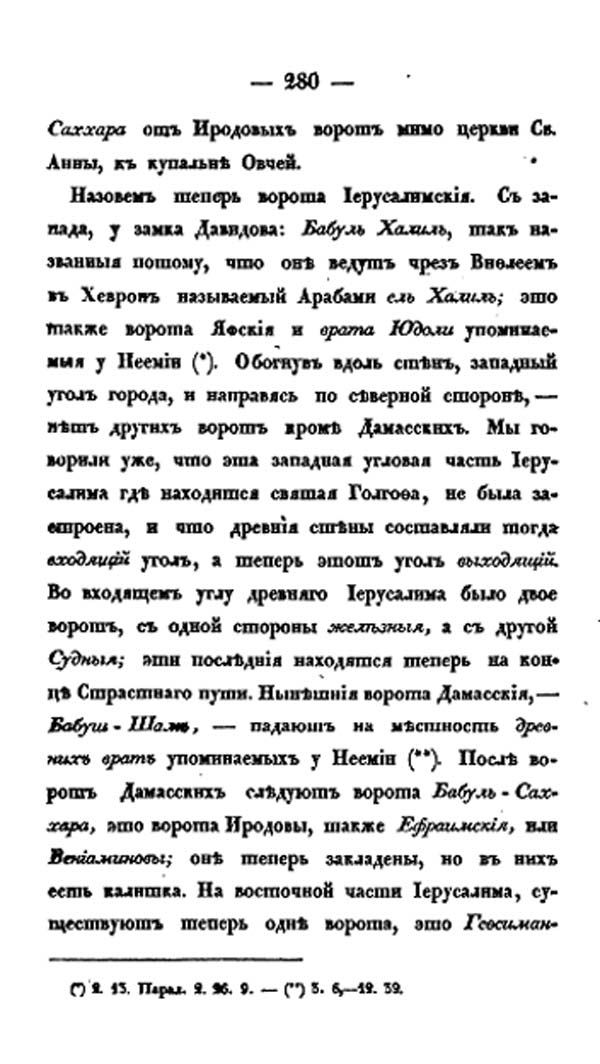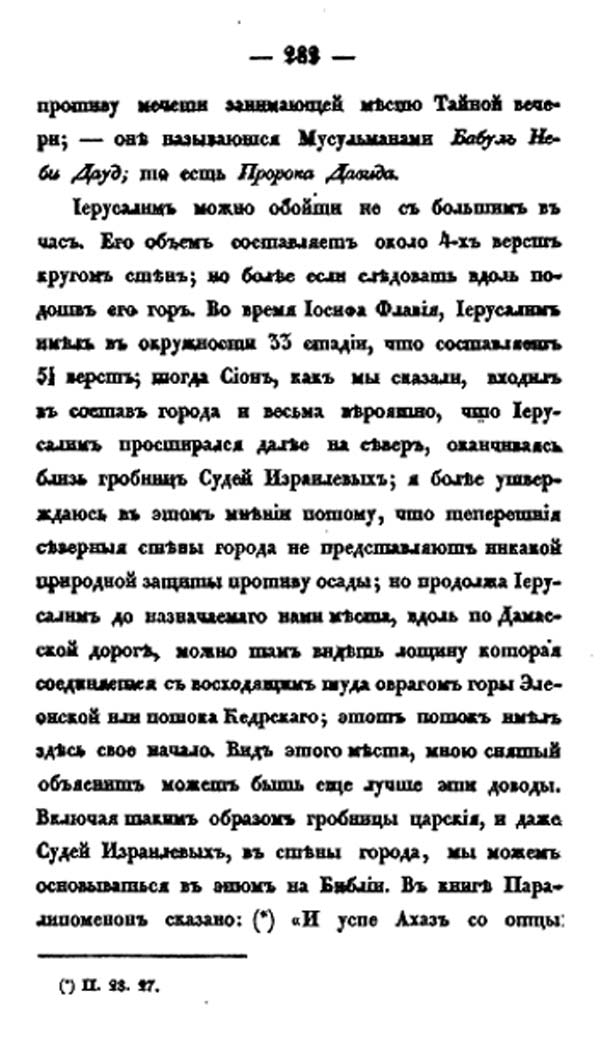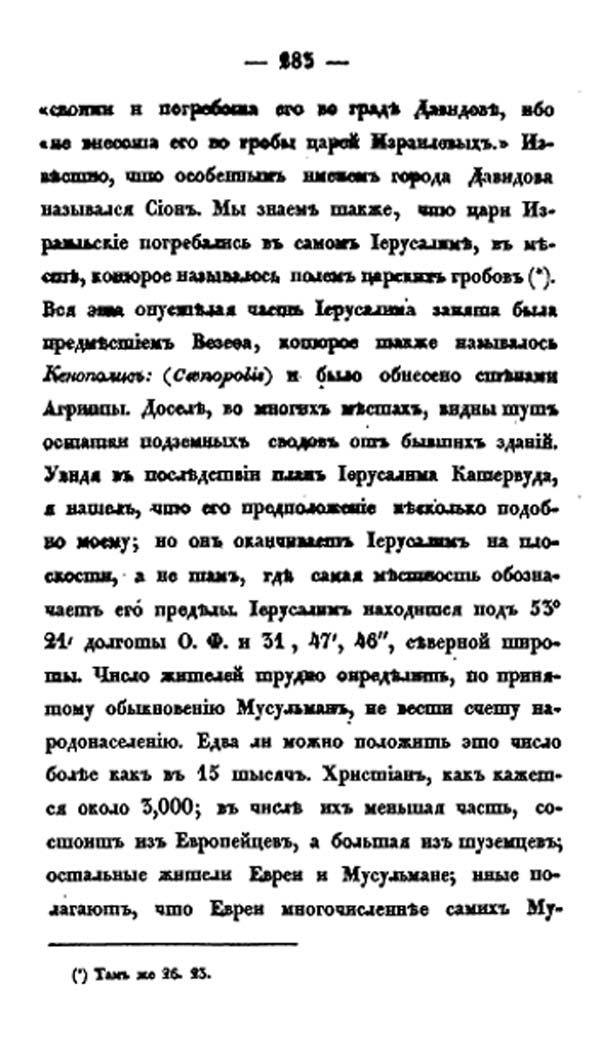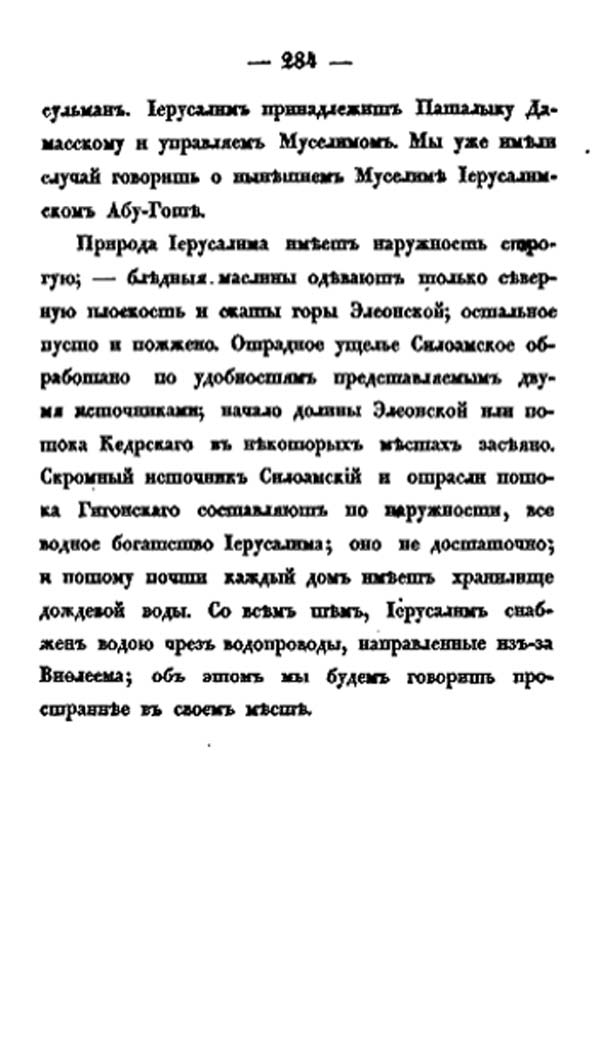(ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ)
ГЛАВА 1
В одну из летних ночей заслуженный учитель Яаков Пинес пробудился ото сна в великом ужасе. Снаружи кто-то крикнул: «Я трахаю внучку Либерсона».
Крик — наглый, высокий и ясный — вырвался из крон канарских сосен около водонапорной башни. На миг он затрепетал на месте, словно подбитая птица, а потом слова опустились на сельскую почву. Прежний трепет, болезненный и знакомый, сотряс сердце старого учителя. Он снова убедился, что один слышит омерзительный возглас.
Долгие годы он занимался задраиванием трещин, сшиванием разрывов и стойкой борьбой с пробоинами. «Как тот голландский мальчик, мой палец в плотине», — говаривал он о себе, всякий раз, когда бился с новой угрозой. Плодовые тли, лотерея, бычьи клещи, малярийные комары, джазовые ансамбли — бушевали вокруг него черными валами, разбивались о плиту его сердца на брызги гнойной пены.
Пинес сел в кровати, запустил пальцы в волосы на груди, сердясь и недоумевая, как это жизнь деревни продолжается своим чередом после столь вопиющего правонарушения, как публичное сквернословие.
Весь мошав, как принято говорить у жителей долины, спал. Мулы и дойные коровы в хлевах, несушки в птичнике, идейные труженики в своих скромных постелях. Словно старая машина, чьи части уже притерлись друг к другу, деревня следовала своей ночной рутине. Каждое вымя наполнялось молоком, каждая гроздь наливалась соком, на боках тучных тельцов, предназначенных к отправке на бойню, нарастало великолепное мясо. Проворные бактерии, «наши одноклеточные друзья», как характеризовал их благодарный Пинес на своих уроках, трудились, снабжая корни растений свежим азотом. Однако старый учитель, человек спокойный и педагог, известный своим терпением и выдержкой, не позволил бы никому и, конечно же, самому себе, почивать на лаврах свершений и валового продукта. «Я тебя изловлю, холера», — сердито пробормотал он и тяжело спрыгнул с железной кровати. Трясущимися руками застегнул старые армейские брюки, зашнуровал черные рабочие ботинки, придававшие уверенности его щиколоткам, и вышел на задание. Очки он в темноте и спешке не нашел, но лунный свет ворвался сквозь дверные щели и указал ему путь.
За порогом он споткнулся о кучу земли, накиданную кротом, занимавшимся в саду своей подрывной деятельностью. Он поднялся, отряхнул землю с колен, крикнул «кто там? кто там?» и внимательно прислушался. Его близорукие глаза сверлили темноту, большая седая голова поворачивалась направо и налево, как голова ночной птицы, словно насаженная на стержень.
Грязный возглас не повторился. Как всегда, сказал он себе, только один раз крикнет и перестанет.
Пинес был встревожен. Грубые слова были явной проповедью уклонения с прямого пути, убогой ловли наслаждений, предпочтения всему личной жизни. Короче, явное нарушение устава. Старый учитель, который «готовил всех наших детей к честной трудовой жизни», вопреки желанию вспомнил о большой краже шоколада, учиненной несколькими его учениками в сельском распределителе, о ящике Ривы Маргулис, прибывшем из России, битком набитом соблазнительными излишествами и «всяческими роскошествами», потрясшими товарищей и принципы, а также о «фальшивом смехе гиены, звучащем в наших полях, который тоже глумится и подрывает основы.»
Его тревога превратилась в ужас после того, как он вспомнил о гиене как раз в то время, когда остался без очков и был совсем незряч. Он почти онемел от внезапного страха.
Эта гиена иногда забредала в деревни, наемная агентка того мира, который простирался за пшеничными полями и синей горой. За долгие годы, прошедшие со времени основания деревни, учитель несколько раз слышал ее резкий и звонкий издевательский лай, раздающийся из вади, и пугался.
Ущерб от гиены был весьма тяжел. Среди укушенных были такие, чей трудовой распорядок нарушился. Они стали сеять пенсилярию осенью и подрезать виноградник летом. Другие, совершенно свихнувшись, стали сомневаться, отлынивать и даже оставили земледельческий труд — упорхнули в город, умерли, уехали из страны.
Пинес был вне себя от тревоги. Он уже видел на своем веку людей, сбившихся с пути, — согбенные фигуры отъезжающих в порту, тощих самоубийц в их гробах. Он видел падших и совращенных. «Лапсердачников-паразитов из Иерусалима, цфатских каббалистов, ускорявших конец света и дураков-коммунистов, приверженцев Мичурина и Ленина, подрывавших рабочую бригаду». Долгие годы опыта и размышлений показали ему, как легко пролить кровь человека, лишенного прививки.
«Прежде всего она будет преследовать детей, гак как их мировоззре¬ние недостаточно монолитно», — забил он тревогу, когда обнаружились следы гадкого создания около крестьянских домов, и потребовал чтобы немедленно было введено патрулирование школы. По ночам он присоединялся к вооруженным парням, своим бывшим ученикам, выходившим на поля, чтобы уничтожить искусителя. Но гиена была хитра и изворотлива.
«Как все прочие предатели, которых мы знали», — сказал Пинес на собрании деревни.
Как-то ночью, выйдя наловить землероек и квакш для школьного живого уголка, он увидел, как гиена пересекла засеянный участок за оврагом и побежала ему навстречу легкой походкой диких зверей, покрывающей расстояния. Пинес остановился, и зверюга уставилась на него своими светящимися оранжевыми глазами и издала глумливое ворчание. Он видел большие покатые бока, напряженные мышцы челюстей: полосатую шерсть, которая возбужденно топорщилась возле позвоночника.
Гиена ускорила шаг, потоптала нежные побеги вики, и, прежде чем удалиться и исчезнуть в зарослях соргума, снова взглянула на педагога и издевательски усмехнулась, оскалив поганые зубы. Пинес не понимал значения «презрительной ухмылки», пока на обнаружил, что забыл ружье.
«Пинес всегда забывает ружье», — говорили крестьяне, после того как факт ночной встречи стал известен, и вспоминали, как много лет назад, когда отцы-основатели закладывали деревню, его жена Лея умерла от лихорадки. Она и две девочки-близняшки в ее утробе. Пинес убежал от любимого тела, продолжавшего истекать зеленым потом и после того, как затихло и остыло, и помчался к роще отступников, в вади, где в те дни обычно кончали самоубийством. Несколько товарищей кинулись его спасать и обнаружили его, лежащим в кустах и захлебывающимся плачем. «Вот и тогда он забыл ружье».
Теперь, когда в памяти его всплыли образы омерзительного зверя, мертвой жены, и синеватых «безгрешных» зародышей, Пинес перестал выкликать «кто там», вернулся к себе, нашел очки и поспешил к моему дедушке.
Пинес знал, что мой дед почти никогда не спит. Он постучал в дверь, не стал ждать ответа, и удар дверной решетки о косяк разбудил меня. Я уставился на дедушкину кровать. Она как всегда была пуста, но запах его сигареты доносился из кухни.
Было мне тогда пятнадцать лет. Большая часть этих лет прошла в дедушкином бараке, Его руки, руки садовника, вырастили меня. Его глаза следили за моим ростом и развитием: его губы оплетали меня густой рафией рассказов. «Сиротой старика Миркина» прозвали меня в деревне, но дедушка, «дед милостивый, ревностный и мстящий», звал меня «мой мальчик».
Был он стар и бледен. Словно окунулся в известку, которой по весне обмазывал стволы деревьев. Низенький, жилистый, усатый и лысый. Годы глубоко упрятали его глаза, пока они не перестали сверкать. Только выглядывали две лужицы серого тумана.
Летними ночами дедушка обычно сидел за столом на кухне в ветхой рабочей фуфайке и в коротких синих штанах, распространяя дым и сладкие запахи деревьев и молока, покачивал скрюченными от работы ногами, размышлял, лелея воспоминания и грехи. Всегда записывал свои короткие фразы на кусочках бумаги, которые летали потом по комнате, словно странствующие стайки бабочек-белянок.
Он непрестанно ожидал возвращения всех утраченных близких. «Пусть будут во плоти перед моими глазами», прочел я однажды на одном из листочков, порхнувших прямо ко мне в руки.
Многократно, с тех пор, как я себя помню до дня его смерти, я повторял свой вопрос:»0 чем ты думаешь все время, дедушка?». И он всегда отвечал мне:»0 себе и о тебе, мой мальчик».
Мы жили в старом бараке. Казуарины осыпали всю крышу хвоей, и дважды в год, по распоряжению дедушки, я поднимался и счищал скопившийся слой.
Пол барака был немного приподнят над землей, чтобы сырость и насекомые не проникли в деревянные доски. Изнутри этого темного и тесного пространства я всегда слышал бои ежей со змеями и легкое шелестенье медянок. Однажды, после того, как гигантская многоножка заползла оттуда в комнату, дедушка обложил кирпичами и со всех сторон закрыл это пространство. Жалобные стенания и смертные стоны, раздававшиеся оттуда, заставили дедушку взломать стенку, и больше он не пытался ничего предпринять.
Наш барак был из последних, оставшихся в деревне. Когда отцы-основатели появились здесь, весь строительный бюджет они пустили на бетонные хлевы для молодых коров, которые хуже них переносили климатические условия, и из сердец которых поколения одомашнива¬ния и ухода вырвали стремление вернуться к природе. Пионеры жили в матерчатых палатках, а впоследствии в деревянных бараках. Прошли годы, прежде чем они перебрались жить в кирпичные дома, но в доме, построенном на нашем участке земли, жили мой дядя Авраам, его жена Ривка и их сыновья — мои кузены-близнецы Йоси и Ори.
Дедушка решил остаться в бараке. Он был садовником и любил деревья.
«Деревянный дом движется, потеет и дышит. Каждый, кто шагает в нем, издает особый скрип», — сказал он мне и гордо указал на толстую балку над своей кроватью, каждую весну выпускавшую зеленый побег.
В бараке были две комнаты и кухня. В одной комнате мы с дедом спали на железных кроватях и на колючих матрасах, называвшихся «матрасами из морской травы». Тут стоял еще большой платяной шкаф, а около него «комод», покрытый потрескавшейся мраморной плитой. В верхнем ящике дедушка держал веревки из рафии и ленты графтекса для прививок, на гвозде за дверью комнаты висел его кожаный пояс и в нем — садовые ножницы с красными ручками, ножики для прививок и тюбик «черной пасты» для лечения обрубков, которую он сам составил. Остальные инструменты — реторты с лекарствами и ядами, пилу, котелки, в которых он замешивал «суп бордо», растворы мышьяка, никотина и перетрума — он держал в маленькой пристройке к коровнику, в той самой, где иногда запирался мой дядя Эфраим, прежде чем смылся и пропал.
Во второй комнате были книги, вроде тех, что встречались в любом доме деревни. «Книга вредителей для земледельцев» Боденхеймера и Кляйна, «Поле» и «Садовод» в синих обложках, «Евгений Онегин» в светлом матерчатом переплете, черный ТАНАХ, книжки «Наблюдате¬ля» и «Штибла», и моя любимая книга — два зеленоватых тома «Уро¬жая жизни» волшебника растениеводства из Америки Лютера Бурбанка. «Низкорослый, худой, слегка сгорбленный, с искривленными тяже¬лой физической работой коленями и локтями», — читал мой дедушка описание Бурбанка из книги, но у Бурбанка были голубые глаза, а у дедушки — серые.
Возле Бурбанка разместились книги воспоминаний, которые написали дедушкины друзья. Некоторые названия я помню до сих пор. «Тропами отечества», «От Дона до Иордана», «Мой путь на родину», «Моя земля».
Эти друзья были героями историй моего детства. Все они родились в далекой стране, перебрались через границу и пришли сюда много лет назад. Некоторые — в телегах «мужиков» (слово, значения которого я не знал), которые «медленно двигались средь снегов и диких яблок», вдоль скалистых берегов, соленых озер пустыни, средь снежных вершин и песчаных бурь. Другие — верхом на белоснежных северных гусях с крыльями «как от края сеновала до спортивного зала», паривших с криками радости над огромными равнинами и Черным морем. Прочие сказали тайные слова, которые «подхватили их сильнее ветра» и перенесли их сюда, разгоряченных, с закрытыми глазами. А еще был Шифрис.
«Когда все мы стояли на железнодорожной станции в Макарове и кондуктор засвистел, и мы залезли в вагоны, Шифрис вдруг заявил, что он не едет. Ты не доел помидорку, Барух».
Я разинул рот, и дедушка запихнул внутрь кусок помидора, посыпанный крупной солью.
«Шифрис сказал нам: «Товарищи! В Эрец-Исраэль надо взойти пешком». Он расстался с нами на железнодорожной станции, с котомкой на спине, машущий рукой, исчез в облаке пара, и до сих пор он шагает в Эрец-Исраэль, протаптывает свою дорожку и будет последним из тех, кто доберется».
Дедушка рассказал мне о Шифрисе, чтобы хоть один человек ждал его и готовился к его приходу, и я продолжал высматривать Шифриса и после того, как все махнули на него рукой, плюнули и умерли, не дождавшись, не проверив, действительно ли он явится. Я хотел быть тем ребенком, который выбежит ему навстречу, когда он прибудет в деревню. Всякая точка на склоне далекой горы казалась мне его приближающейся фигурой. Кучки золы, которые я обнаруживал на краю поля, были остатками его походных костров. Пучки шерсти на шипах стелющегося боярышника были вырваны из его обмоток. Чужие следы на пыльных дорогах были оставлены его ногами.
Я просил у дедушки показать мне на карте маршрут, которым идет Шифрис, границы, которые он пересекает, реки, через которые он переправляется. Только когда мне исполнилось четырнадцать, дедушка сказал мне: «Хватит Шифриса».
«Он и вправду объявил, что пойдет пешком», — сказал он мне, — «но наверняка устал через пару дней и остался там, или что-нибудь с ним случилось по дороге — заболел, ранили его, вступил в партию, влюбился… кто знает, мой мальчик: много есть всего, что способно приковать человека к месту».
На одной записке я обнаружил написанное его мелкими буквами: «Цветение, а не плод; дорога, а не продвижение».
Книги соседствовали с большим радиоприемником «Филько», который подписчики «Поля» купили в рассрочку. Напротив располагались диван и два кресла, которые мой дядя Авраам и его жена Ривка перетащили в дедушкин барак, после того, как купили для своего дома новую мебель. Эту комнату дедушка называл гостиной, но гостей всегда принимал на кухне у большого стола.
Пинес вошел. Я сразу узнал его голос, тот самый громкий голос который обучал меня естествознанию и ТАНАХу.
«Миркин», — сказал он, — «он снова кричал».
«Кого на этот раз?» — Спросил дед.
«Я трахаю внучку Либерсона», — произнес Пинес с напором своим сильным голосом и моментально смутился, закрыл окно и добавил: «Ну, то есть, тот, кто кричал».
«Чудно, чудно», — сказал дедушка, — «парень — многостаночник. Сделать тебе чаю?»
Я напрягся, прислушиваясь к их разговору. Уже несколько раз я попадался притаившимся за открытыми окнами, подслушивающим между плодовыми деревьями и брикетами сена. Я взял за правило с силой стряхивать схватившие меня руки и исчезать (с прямым, скованным телом и жесткими плечами), не сказав ни слова. Потом люди приходили жаловаться дедушке, и он не верил их крикам.
Я слышал, как его старые ноги шаркают по деревянному полу, звук наливаемой воды и звон ложечек о тонкое стекло, а потом шумные глотки. Способность стариков держать в руках стаканы и спокойно глотать кипяток уже перестала меня изумлять.
«Что за наглость, так кричать», — сказал Пинес, — «зубоскаля, сквернословя из-за деревьев».
«Кто-то наверняка дурака валяет», — сказал дедушка.
«Что же мне делать? » — Застонал заслуженный педагог, видевший в происшествии личное поражение. — «Как я буду выглядеть в глазах деревни?»
Он вскочил с места и начал безостановочно шагать. Я слышал как он ломает в тоске и отчаянии суставы пальцев.
«Юношеские шалости», — сказал дед, — «не стоит волноваться».
Улыбка, сквозившая в его голосе, взвинтила Пинеса, который внезапно завопил:»Объявить?! Во весь голос? Все должны слышать?»
«Смотри, Яков», — попытался успокоить его дедушка, — «мы живем в маленьком местечке. Если кто-то что-то делает, то в конце концов его поймают и комитет ему всыпет, не стоит так волноваться».
«Я ведь учитель»,- горячился Пинес, — «учитель, Миркин, педагог! Все претензии ко мне».
В архиве Мешулама Циркина подшито известное заявление Пинеса на совещании (4793 год): «Биологическая способность произвести детей не гарантирует родителям также и воспитательные способности».
«Никто не станет тебя обвинять из-за какого-то похотливого жеребчика», — сказал дед сердито. — «Ты вырастил для деревни и всего движения великолепное поколение».
«Я гляжу на них», — мягко сказал Пинес, — «приходят в первое отделение, нежные как молодые росточки, как цветы, которые я вплетаю в венок деревни».
Пинес никогда не говорил «класс», он говорил «отделение». Я улыбнулся в темноте, потому что знал, какое последует продолжение. Пинесу нравилось сравнивать воспитание с сельским хозяйством. Когда он описывал свою работу, то пользовался такими выражениями, как «девственная почва», «стелящаяся лоза», «успехи орошения». Ученики казались ему рассадой, «отделение» — грядкой.
«Миркин», — продолжал он взволнованно, — «даже если я и не крестьянин, как вы, я тоже сею и пожинаю. Они — мой участок, мой виноградник, а один такой…» — на этот раз он почти задохнулся, схваченный за горло отчаянием, — «один такой… плевел… трахает! Конское истечение и мясо ослов!»
Как и все прочие его ученики, я привык к библейским фразам в его устах, однако подобных выражений еще не слыхал. Я неосторожно дернулся в кровати и немедленно замер. Половицы скрипнули под тяжесгью моего тела, и старики на мгновение перестали говорить.
В те дни, когда мне было пятнадцать, я уже весил около ста десяти килограммов и мог схватить за рога откормленного бычка и придавить его голову к земле. Мои габариты и мощь вызывали изумление в деревне, и крестьяне подтрунивали и говорили, что дедушка поит меня колострумом для телят, тем самым первичным молоком, укрепляющим детенышей.
«Не повышай голоса», — сказал дедушка, — «мальчик проснется».
Так он звал меня до своей смерти — «мальчик». «Мой мальчик». И тогда, когда все мое тело покрылось черными волосами, тучное мясо наросло на моих боках и изменился голос. Мой кузен Ори расхохо¬тался, когда наши голоса стали ломаться, и сказал, что я единственный ребенок в деревне, чей голос переменился с баритона на бас.
Пинес вставил несколько фраз по-русски (на языке, к которому прибегали все отцы-основатели, каждый раз, когда возникала необходимость в тайных сердитых перешептываньях), и тут же я услышал щелчок. Это была крышка банки с давлеными оливками, которую дедушка открыл отверткой. Сейчас поставит полную тарелку на стол. Пинес, в котором жила великая страсть к острому, кислому и соленому, начал уплетать их за обе щеки, и его настроение моментально улучшилось.
«Помнишь, Миркин, когда мы приехали, зеленые юнцы из Макарова, и ели «маслинот» в ресторанчике в Яфо, те самые черные оливки, и красивая золотоволосая девушка в синем платке прошла по улице и махнула нам рукой?»
Дедушка не ответил. Слова вроде «ты помнишь» всегда заставляли его умолкнуть. Кроме того, я знал, что сейчас он не станет говорить, потому что держит во рту оливку, которую всегда медленно посасывал, когда пил чай. «Или едят, или вспоминают»,- однажды сказал он мне. — «Нельзя пережевывать слишком много одновременно».
У него была привычка держать во рту давленую оливку, когда он пил чай, и слегка посасывать кусочек сахара, спрятанного в ладони, наслаждаясь смесью горечи и сладости. «Чай и маслины. Россия и Эрец-Исраэль».
«Хорошие оливки», — сказал Пинес, немного успокоившись. — «Очень хорошие. Как мало удовольствий осталось, Миркин, как мало, и как мало взволнованности. Восемьдесят лет мне ныне, вкушу ли еще, раб Твой, от пищи своей и от питья своего, услышу ли еще голос поющего и поющей».
«Ты мне показался очень взволнованным, когда вошел», — заметил дедушка.
«Этот наглец!» — Плюнул Пинес. Я услышал, как косточка вылетела из его рта, отскочила от стола и перелетела в раковину. После этого оба замолчали. Я знал, что новая оливка сейчас медленно сдавливается между вставными челюстями деда, сминается и истекает своим горьковатым соком.
«А от Эфраима», — вдруг спросил Пинес, — «от Эфраима ты что-нибудь слышал?»
«Ни слова», — ответил дедушка с вполне объяснимым холодком. — «Ничего».
«Только ты и Барух, а?»
«Я и мальчик».
Только я и дедушка.
Мы двое. С того дня, как принес меня на руках из дома моих роди¬телей, и до того дня, как отнес я его на руках и похоронил на участке.
Только он и я.
ГЛАВА 7
«Бабушка Фейга прошла по полю нарциссов в платье», — сказал Ори, и глаза его затуманились, — «Как украинская крестьянка, без трусов. Она забеременела от прикосновений пестиков. Из-за этого до сих пор папа плачет и убивается, когда нарциссы цветут у источника.»
Начальство посчитало и обнаружило, что бабушка родит в Шавуот, и «принесет первый несравненный плод — первого сына деревни».
«Циркин и Либерсон очень взбудоражились по поводу бабушкиной беременности», — рассказывал дедушка сдержанным тоном, не вызывавшим во мне никаких подозрений. Эти двое отправлялись в опасные путешествия, приносили ей лимоны из Хамат-Гадера, каперсы из Шомрона и птенцов куропатки с Кармеля.
Два преданных товарища женского пола были посланы из Иорданской долины помогать ей в последние тяжелые месяцы беременности. Они читали ей отборные романы и выдержки из статей основоположников движения».
«Миф о первенце, какой бы он ни был паршивый, не полагается разрушать», — сказал мне Мешулам Циркин, не простивший своему отцу Мандолине и матери Песе, что они родили его вторым в деревне. — «Брюхо твоей бабки Фейги было на устах у всей деревни».
Фейга бродила между палаток грязными тропинками, и лицо ее лучилось. Голос ее стал глубоким и богатым и чаровал человека и скотину.
«И Миркин, который умел любить ее только вместе с Элиэзером Либерсоном и Циркиным-Мандолиной, и продолжал мечтать о своей крымской красавице даже в тот день, когда бедная Фейга пришла в его палатку, тоже смотрел на нее с нежностью и уважением».
«Он массировал ее живот зеленым маслом», — добавил Ори собственные детали.
Когда пришло ей время рожать, повезли ее на телеге на железнодорожную станцию в нескольких километрах от деревни, но уже при отправлении увидели издалека поезд, отделившийся от склона горы и подъезжавший к станции.
История рождения Авраама была одной из самых известных в долине. На праздновании пятидесятилетия деревни она была даже инсценирована режиссером из Тель-Авива, который был привезен в деревню и изумил всех своими фиолетовыми штанами и отчаянными попытками совокупиться как можно с большим количеством девушек.
Циркин-Мандолина и Рылов-Часовой «вскочили на коней, помчались словно казаки, словно бушующее пламя», и догнали поезд. Машинист пытался протестовать, даже угрожающе замахал лопаткой, но Рылов вскочил в мчащийся паровоз со спины лошади, вонзил в машиниста прямой палец и грозный взгляд и потянул за ручку стоп-крана.
«Мы не просто люди, мы — комитет!» — Заявил он машинисту и его перемазанному сажей помощнику, которого страшные слова и внезапная остановка опрокинули на кучу угля.
«Вставай и трогай немедленно, если хочешь умереть в своей постели, сволочь!» — Крикнул Рылов. — «На всех парах!»
Поезд ухнул и тронулся, оставляя позади себя громадный сноп искр, клубы дыма, двух оседланных коней, бабушку Фейгу и двух сопровождающих, кричащих и бегущих к железнодорожному полотну. Фейга опустилась рожать в поле.
Через час родился мой дядя Авраам, первый сын дедушки и бабушки и первый сын деревни. «Он родился на нашем поле, на нашей земле, под нашим солнцем, как раз на том месте, где стоит сегодня большой амбар Маргулиса!»
В тот день цикады без передышки звенели в поле, ночью пионеры сидели и пели, а утром появились Рылов и Циркин, весь обратный путь проделавшие бегом. Рылов даже не извинился. Он выпил водички и попросил собрать товарищей, чтобы решить, как назвать мальчика. Ему сказали, что мать уже дала имя сыну, «Авраам, в честь ее отца».
Элиэзер Либерсон пробормотал что-то о «товарище, разрешающем себе недопустимые вольности». В деревенском листке он написал, что «этот ребенок наш в той же степени, что и ее». Однако вынужден был смириться.
Фаня Либерсон, похищенная из киббуца за несколько недель до этого, знала, что мужчин посещает ощущение близкой смерти при рождении их первого ребенка, и забрала дедушку из палатки.
«Она сидела с Леей, моей бедной супругой, и вместе они шили маленькому Аврааму вышитые пеленки и плели ему колыбель из свежих камышей, срезанных у источника».
Через неделю из города за синей горой был привезен моэль. товарищи надели белые одежды, подстригли волосы и ногти и стали полукругом перед палаткой Миркина. Дедушка вынес сына, и поднял его на руках и раздались крики ликования. «Твой дядя Авраам был нашим первенцем. Он родился прежде, чем деревья принесли свои первые плоды». До сего дня в Шавуот мы поднимаем в присутствии всего общества детей, родившихся в этот год, в память о том празднике, когда родился первый мальчик.
Общество было ослеплено красотой и чистотой лица младенца, улыбавшегося присутствующим «таким сверкающим ртом, что можно было поклясться, что в нем уже есть зубы, и был похож на огромный нарцисс в оборках своих пеленок». Авраам родился без двух глубоких морщин, пересекающих сейчас его лоб, и его лицо было еще приятным, гладким и свежим, как кожица большого яблока.
«Сразу сомкнулись ряды», — продолжал Пинес, — «руки опустились на плечи и на талии, ноги пустились в пляс». В тот час все чувствовали, что благодать посетила деревню, и что есть тот, «кто понесет факел в великой эстафете поколений». Ибо не сгинет дело собирания их на этой земле.
Улыбка Пинеса была нежной, и весь его вид выражал блаженство. «Этот ребенок связал нас узами, которые не разорвутся вовек», — сказал он, и слова упали из его рта, как плоды старой дикой сливы на участке Маргулиса — маленькие, сладкие, аккуратные.
«Мы передавали его из рук в руки и дали подержать его в объятьях каждому товарищу. На один краткий миг трепета и сладости мы почувствовали прелесть его плоти, даже вдохнули полными легкими его милый запах. По одному, как переносят священный предмет, подержали его, и каждый благословил его, кто в полный голос, а кто в глубине сердца своего. Для каждого из нас был в нем удел и наследие».
Я при случае покажу тебе протокол обрезания», — обещал мне Мешулам. — «Либерсон пожелал младенцу, чтобы тот провел первую борозду в пустынном Негеве, Рылов потребовал, чтобы он освободил Гилаад и Бошан, а мой папа сказал, что научит его играть на мандолине. Они видели его в воображении сеятелем и пахарем, приводящим отторгнутых евреев с гор Урала и из Аравийской пустыни и разрабатывающим новые стойкие сорта комбикорма. И что из всего этого вышло? Дядюшка твой Авраам».
Это был прекрасный миг, и люди помнили его милость и счастье еще многие недели тягот и лишений. Все были умиротворенными и тихими, кроме Шломо Левина, брата моей бабушки, приехавшего на поезде из Тель-Авива на празднование обрезания. Он побоялся приехать в белом городском пиджаке, и поэтому надел грубую рабочую «блузку», оставлявшую на его теле красные пятна, и нацепил серую каскетку.
Левин пошел с железнодорожной станции через поля, изумленный и растревоженный запахом тяжелой земли и ее шорохами. Фейга положила две тонкие измученные руки ему на шею. Тоня и Маргулис, которые помнили его по совместному путешествию из Иерусалима в Яфо, улыбнулись ему, как старые знакомые. Однако среди взволнованных пионеров, обнимавших и целовавших его, Левин чувствовал себя чужим и посторонним. Он подхватил «нехорошего младенца», и тот впился в его руку острыми зубами.
После этого пошли искать моэля, гулявшего по деревне, нюхавшего землю и читавшего наедине с собой восхищенные молитвы. Он поднял Авраама на руках, одобрительно почмокал губами при виде прелестного члена и обрезал его крайнюю плоть. Воцарилась глубокая тишина. Даже Либерсон, утверждавший, что обрезание — ничто иное как языческий обычай, чувствовал, что это неподходящий момент для спора, и когда раздался громкий писк первенца, разнесшийся над полями, разрыдались пионеры и не стыдились.
ГЛАВА 37
В первую весну по смерти дедушки холмик его могилы начал шевелиться и двигаться. Красноватые жуки с черными пятнами на спинках выбрались из земли и ждали поступления новых покойников. Те не замедлили появиться. «Вечный дом для пионеров» стал фактом, и деревня была взбудоражена. Я отказался предстать перед руководством, а Бускила вернулся с разбирательства веселым и возбужденным и прочитал мне несколько отрывков из протокола заседания, показавшихся мне увлекательными.
Тов. Либерсон: Товарищи, уже около года, как товарищ Барух Шенхар хоронит мертвых в хозяйстве Миркин. Товарищ Шенхар похоронил там своего деда, по его утверждению, в связи с волей покойного, без разрешения уполномоченных органов. Через несколько месяцев после того он похоронил там Шуламит Моцкин, новую репатриантку из России, известную всем как та, что была с товарищем Яаковом Миркиным в его последние дни. После этого он начал хоронить там людей за плату и даже импортировать трупы изменников из-за границы.
Тов. Рылов: За последние полгода похоронены в хозяйстве Миркин по меньшей мере пятьдесят голов.
Адвокат Шапира: Попрошу господина Рылова придерживаться более приличных выражений.
Тов. Рылов: Это не просто люди. Это комитет! Сельский комитет требует от товарища Шенхара освободить могилы в хозяйстве Миркин и прекратить подобный обычай.
Адвокат Шапира: Позвольте мне уточнить. Это не обычай, а ремесло. Мой доверитель зарабатывает предоставлением похоронных услуг заинтересованным в этом лицам.
Бускила: Никого не заставляют.
Тов. Рылов: А ты помолчи, Бускила.
Тов. Ли6ерсон: Деревня располагает кладбищем на возвышенности, красивым и приличным кладбищем, украшенным деревьями, обра¬щенным к долине и отдаленным на несколько километров от деревни, как требуется с точки зрения здоровья. Чего нельзя сказать в случае хозяйства Миркин, близкого к жилым домам.
Адвокат Шапира: Согласно указу «Народного здоровья» от 1940 года, поправка 1946 года, Министерство здравоохранения будет отка¬зывать в предоставлении разрешения на открытие нового кладбища, если не убедится в том, что а) новое кладбище будет находиться в таком состоянии, что не подвергнет опасности любую реку, колодец или другое средство водоснабжения посредством загрязнения, а также, что б) новое кладбище не окажется к моменту открытия на расстоянии менее ста метров от функционирующего жилого дома, наиболее при-ближенного к территории кладбища. Каждое новое кладбище будет окружено прочными оградой или стеной, чья высота не будет менее одного метра и половины метра. Вся территория кладбища будет дренажирована в достаточной степени. Мой доверитель утверждает, что «Вечный дом для пионеров» соответствует этим стандартам, прове¬рен и разрешен компетентной госкомиссией, каковое разрешение, пре¬доставленное моему доверителю, я имею честь предъявить.
Тов. Либерсон: Товарищ Шенхар нарушает устав мошава. Мы вернулись на нашу землю для создания земледельческого поселения, жить трудом рук своих.
Адвокат Шапира: Мой доверитель не действует вопреки духу мошава. В полном соответствии с принципами, упомянутыми господином, он не нанимает оплачиваемых рабочих и уплачивает все взносы и налоги объединению, как это требуется. Если позволите мне подобное высказывание, то ведь мой доверитель безусловно возвращает евреев в их землю и приносит почет и гордость поселенческому движению, увековечивая память его пионеров.
Тов. Рылов: Глупые шутки.
Адвокат Шапира: Мой доверитель зарабатывает, таким образом, работой с землей. Он живет трудом своих рук, считает себя земледельцем и погребение считает земледельческой отраслью. Он пользуется сельскохозяйственными орудиями для нужд копки, посадки, озеленения и орошения и находит удовлетворение в своем труде. Достижения моего доверителя говорят сами за себя как с экономической, так и с земледельческой стороны. Могилы оказались стойкими перед засухой, нашествиями грызунов, заморозками и различными заболеваниями. К вышесказанному прилагается компетентный расчет, доказывающий, что дунам похоронной площади приносит дохода больше, чем любая другая земледельческая продукция, как в абсолютном исчислении, так и относительно требуемых капиталовложений.
«И это то, что их совершенно уничтожило», — оживился Бускила. — «Доходы, товарищ Шенхар, деньги, которых наше земледелие приносит больше, чем их земледелие».
Перевод с иврита: НЕКОД ЗИНГЕР