

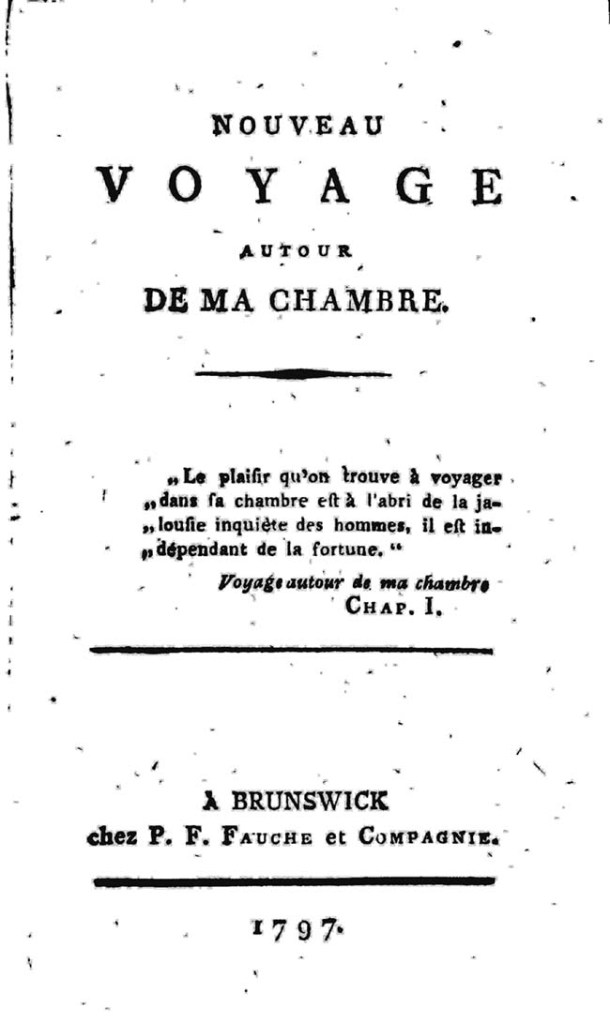



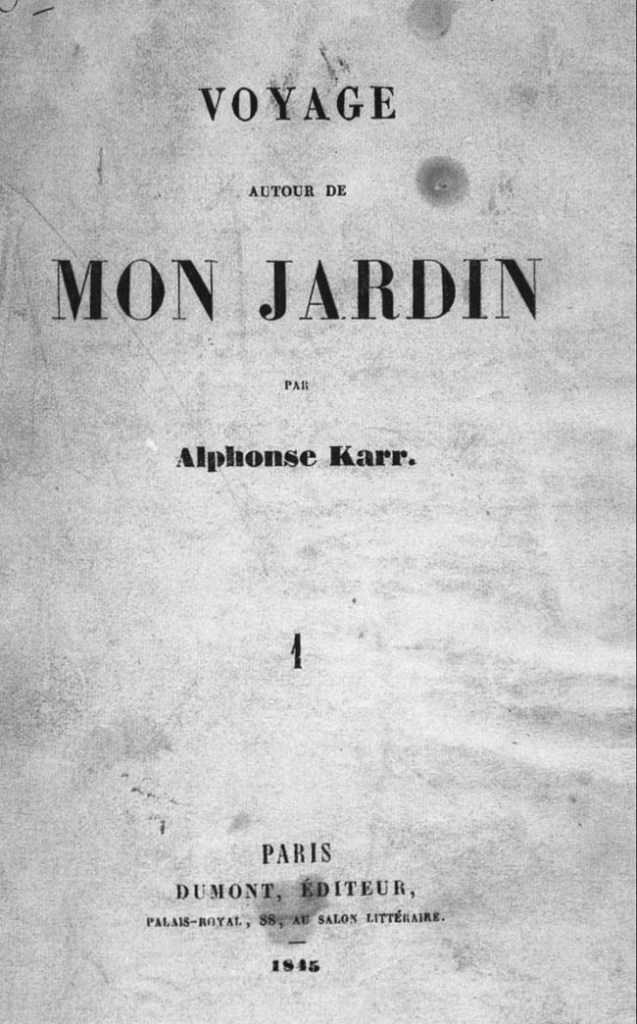



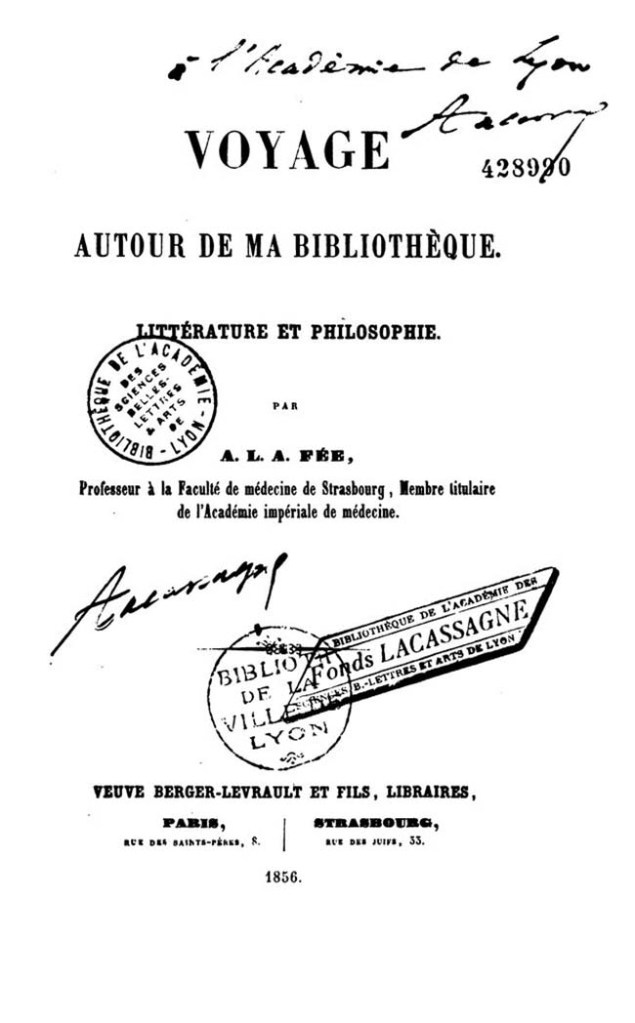

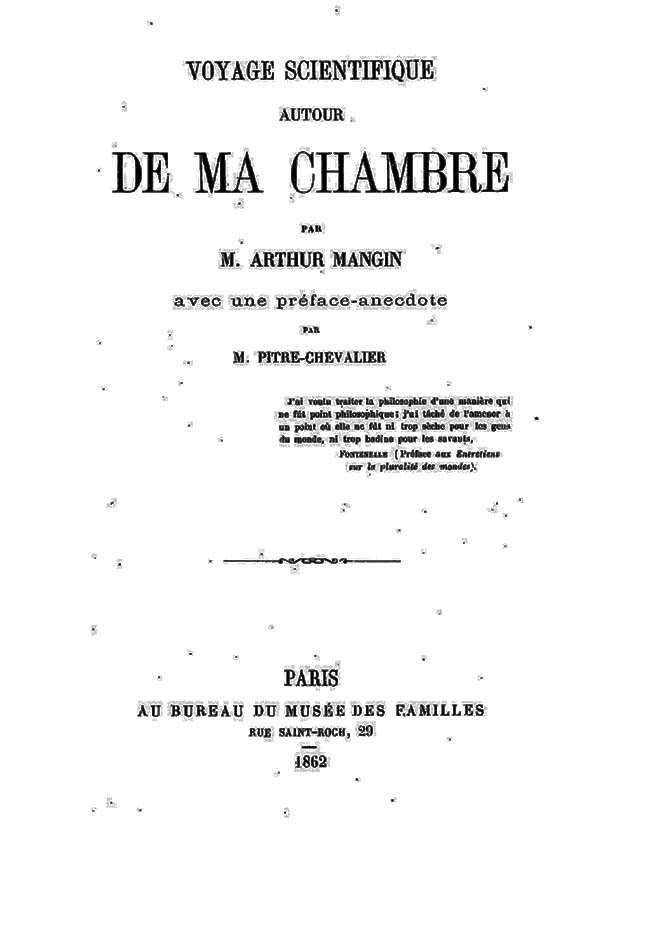

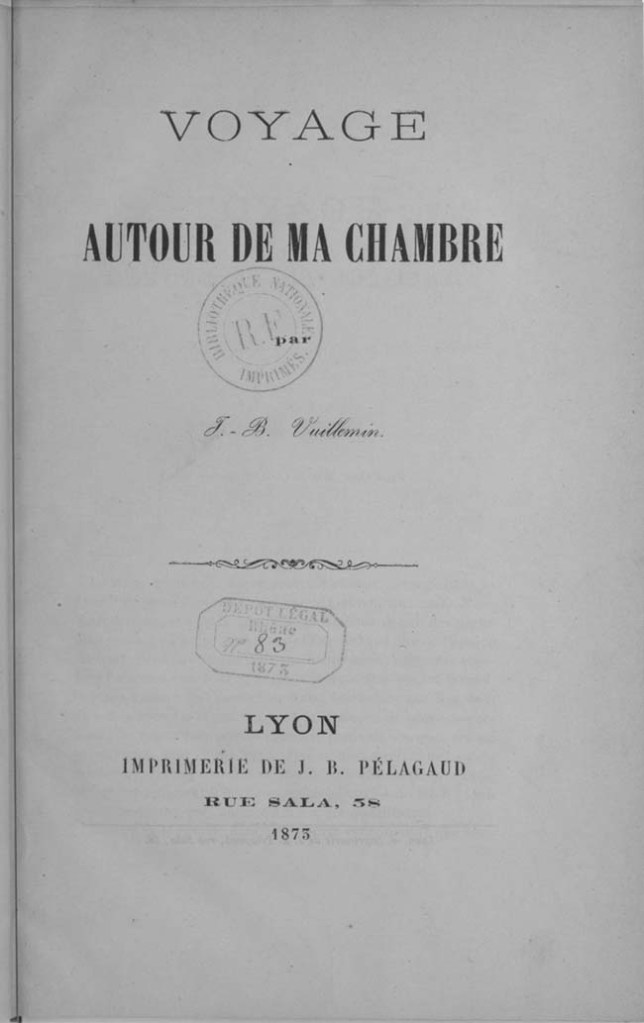
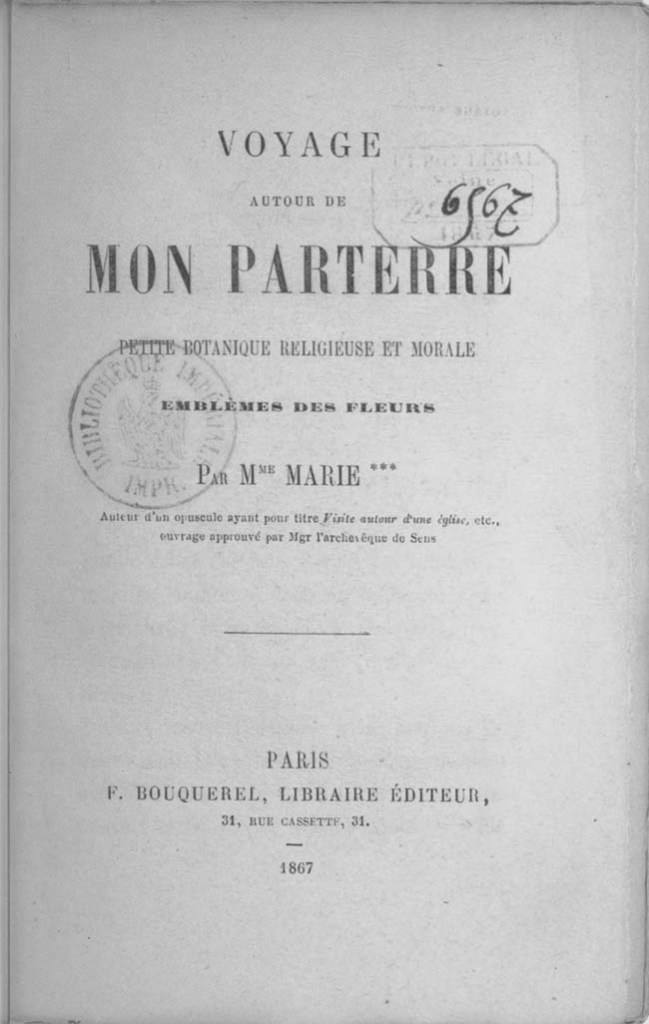

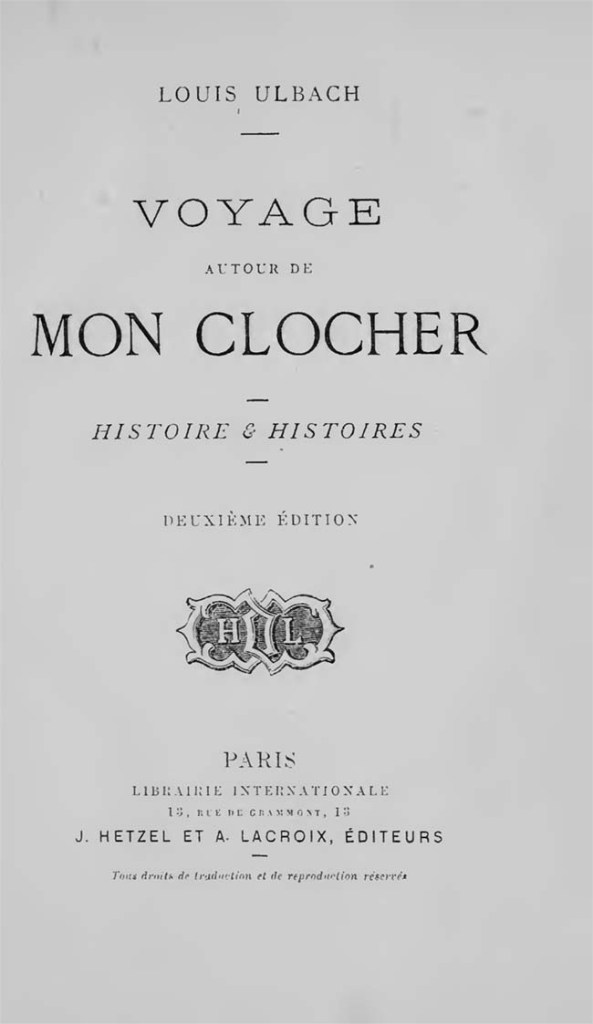




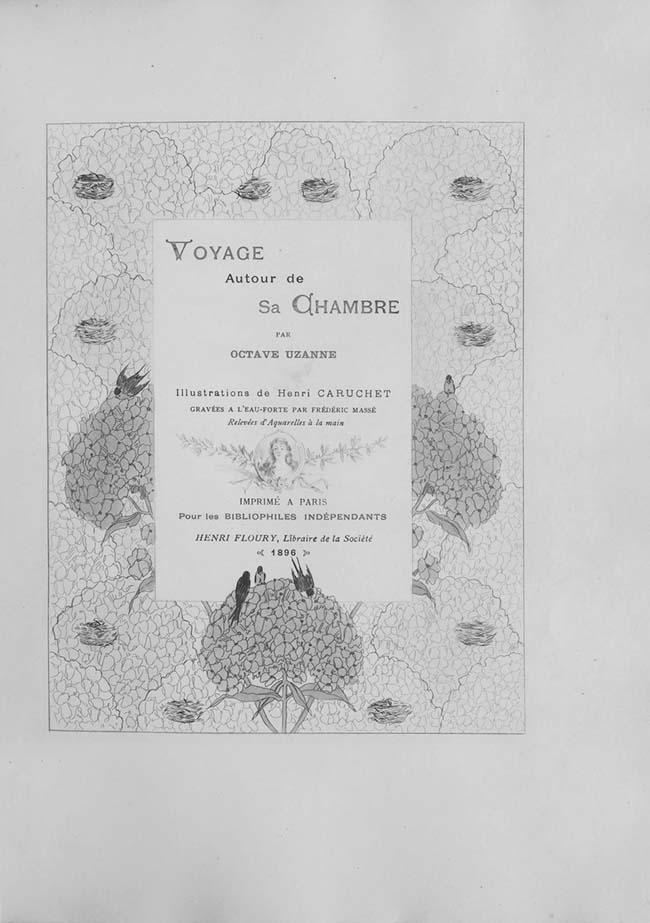

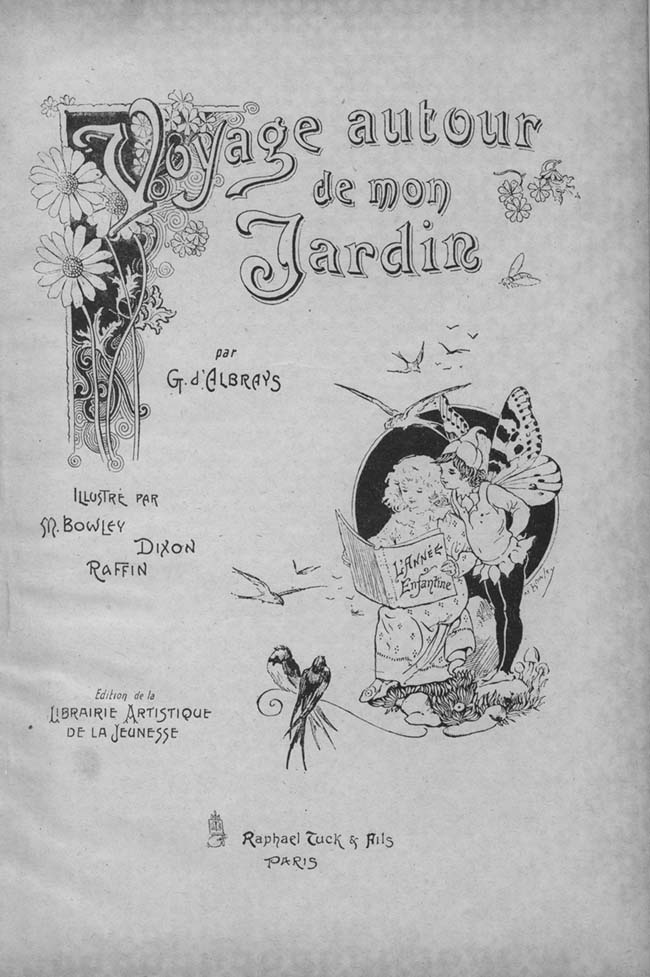
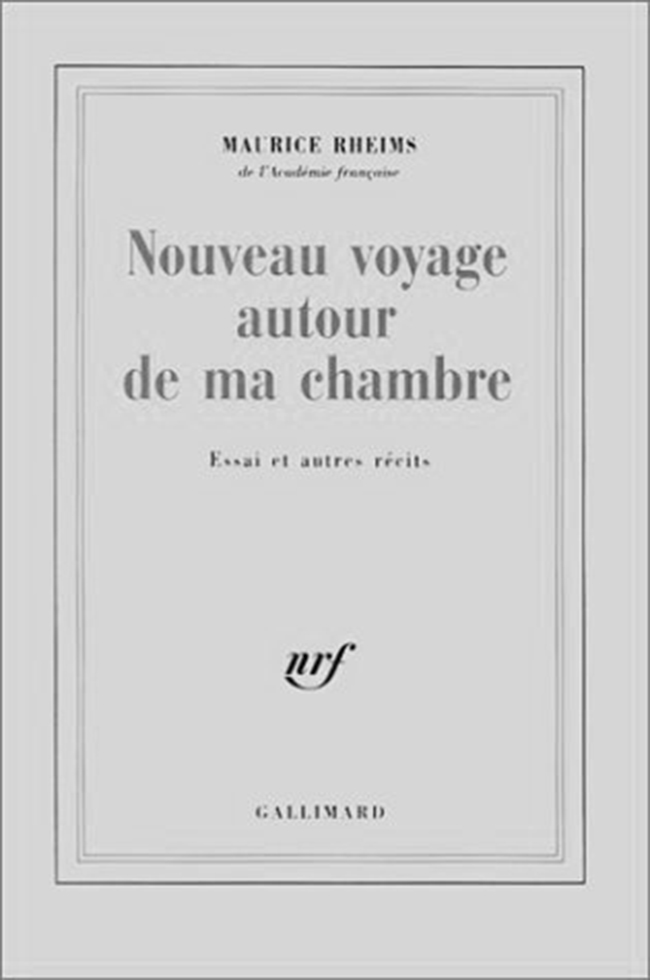




СНЫ О КОМНАТАХ И ОКНАХ
1992 год
МАЛЬЧИК-СПАСИТЕЛЬ
Ощущение катастрофы. Все чего-то ждут. Оказывается, ждут спасителя. Если он не придет, будет что-то страшное. Действие происходит в нашей большой комнате. Все отчаиваются и перестают ждать. Но я кричу им: «Подождите еще, невозможно, чтобы он не появился!» Я вижу странное небо, оно прямо в квартире, это мерцание голубого света. Желтые прожилки, коридоры и воронки. И вдруг возникает ощущение переполняющей радости. Вот, сейчас! Мерцающая стена разрывается, дверь в ней оказывается зеркалом, из зеркала выходит мальчик лет семи. Я кричу всем: «Вот он! Ура!» Все обрадованы. Я крепко прижимаю его к себе. Но вдруг обнаруживаю, что держу пустоту. Бегаю по квартире. Ищу. Нигде его нет. Забегаю в комнату, выбегаю в зал и вдруг вижу его спящим на кресле, беру на руки, бережно прижимаю к себе. Ощущение мира и покоя. Мальчик в махровом бордовом костюмчике спит у меня на руках.
20.01.93
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
Мы сидим в квартире, в застекленном зале. За окном ночь, какие-то люди, в основном, молодежь, тусуются на улице, кто-то начинает драться. Но нам все это не очень интересно. Там ночь и тьма, мы же сидим наверху в освещенной комнате, хотя от этих суетливых дерущихся людей нас отделяет лишь стеклянная стена. Тут я вижу, что тот, кто со мной, порвал свой старый красивый календарь, и я ругаю его за это. Но потом увлекаюсь картинками из него: синяя морозная тьма, опушенные снегом деревья, какие-то экзотические блюда, сверкающие льдом. Ностальгия. Потом я выхожу на улицу, прямо через стену, которая не ощущается, парю в воздухе, а внизу идет человек в зеленом пуховике. Сначала движусь за ним, потом залетаю на крышу здания. Но мне становится снова не очень интересно, и я просыпаюсь.
10.09.93
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
Я в какой-то огромной комнате. Вижу, что навстречу мне бегут испуганные люди. Не могу понять, где источник страха. Люди убегают, ветер гонит кучу сухих листьев из открывшейся железной двери. Тут меня наполняет мистический ужас, и я вижу его причину. В открытой двери показывается светящийся шар, разбрасывающий с треском вокруг себя молнии. Но он не движется, а стоит на месте. Тогда я прошу ближайших к двери людей закрыть ее, но они боятся. Тогда я сама подбираюсь ближе, но дверь тяжелая и не закрывается.
06.01.94
ПОЛЕТ
В осознанном сне получила полную свободу действий и приказала себе лететь. Ринулась к окну, вылетела не через него, а через кирпичную стену чуть повыше окна, и она не была мне препятствием. И вот взлетаю все выше и выше в голубое чистое небо, в котором с наслаждением купаюсь. Вокруг плавают какие-то светящиеся, разноцветные геометрические фигурки.
01.04.94
ОКНО В ОРАНЖЕВЫЙ МИР
Я стояла и смотрела на отверзшееся небо. Был закат или восход. И в этом раскрывшемся окне таяли облака с сиреневыми или розовыми краями, они освещались изнутри солнцем огненного мира. От обычного заката это отличалось своим стереоскопическим измерением, в котором была глубина и объемность красок. Всю грандиозную картину сопровождали разряды грома, сверкали молнии, они были величественны и торжественны.
11.05.94
СНОВА ОРАНЖЕВЫЙ МИР
Встречали Новый год дома. Девчонки во дворе катались на санках, мы наблюдали за ними из окна. Я рассказывала об огненных вратах неба и вдруг увидела восходящий в ночи месяц. Он был так огромен, как никогда в этих широтах. Снова небо вдруг стало светлым, даже белым от сгущения облачной пелены. И вот в середине образовалось окно, как бы воронка, которая засасывала в себя эту облачность. И была она, как раньше, огненно-оранжевого цвета. Я обрадовалась: «Вот, вот! Это то, что я видела!» Облачность совсем исчезла, передо мной был целый океан оранжевого света. Такое ощущение, что я стою и посреди него, и наблюдаю со стороны, из окна своей квартиры. Появились желтые вспышки, потом какие-то странные образования, похожие на доисторических ящеров, стали формироваться из них. Они прыгали по оранжевому, желтые. Но совсем не агрессивные, не страшные. Я говорю: «А вот этого не видела». Появляются сиреневые облака, похожие на тени. Я какое-то время пребываю еще в этой стихии, но потом уже только со своего наблюдательного пункта смотрю, разглядеть эти тени и облака мне мешают деревья земли. Медленно все это прекращается. Еще из этого «окошка» звучал низкий голос, как в фильме про Моисея, когда Бог давал ему скрижали. И в прошлый раз, и в этот я видела не насыщенные, а разреженные, тонкие краски. В первый раз мне как бы чего-то не хватало в этой утонченности, сегодня это воспринималось почти как должное.
16.05.94
УРАГАН
Отдыхаем в каком-то особняке. Лето, все в ярких нарядах. И весь пансион поехал в музей или на концерт в Бразилию. Мне тоже надо с ними. Но мы опаздываем и никуда не едем. Спускаюсь вниз по лестнице, в холл. В дверь постучали, иду открывать, открываю и вижу женщину. Она вбегает, я поскорей закрываю за ней двери, потому что на улице начинается что-то невообразимое, какое-то грандиозное природное явление. Воет ветер, надвигается ураган. И стою я перед закрытыми дверями, и жду чего-то. Сердце наполняется знакомой смесью восторга, жутковатого ощущения неведомого, близости и присутствия мощных сил. Ураган все ближе, все слышнее, и вот двери распахиваются под напором стихии, и волна воздушного цунами накатывает прямо на меня. Начинается! Я стою, противостою ей. Нет во мне страха, а только трепет сердечный перед мощью стихии…
24.05.94
ИЛЛЮЗИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Землетрясение! Это я поняла, ведь пол в комнате дрожит и все предметы тоже. Но я не спешу выйти наружу, ну землетрясение, ну и что. А за окном проносится реактивный самолет, очень низко и угрожающе гудит. Потом наш дом поехал – все замелькало перед глазами, быстрее, еще быстрее. Вдруг, раз – а ничего и нет. Я спрашиваю кого-то, было ли землетрясение, ехал ли дом. Они отрицательно мотают головами. О, иллюзия!
26.07.94
ВСТРЕЧА С ВЫСОЦКИМ
Мы долго ехали на трамвае и, наконец, вышли на какой-то безлюдной остановке, на окраине города. Торчат заводские трубы. Это рабочие кварталы. Идем к кому-то на день рождения. Заходим в квартиру. Женщины идут в кухню, возиться с продуктами, а я захожу в комнату к хозяину. Она чисто побелена, и стены, и потолок. Но одна стена осталась незаконченной – потеки известки по выцветшей желтой поверхности. На стенах нет никаких картин, фотографий, ковров и так далее, из мебели стоит один лишь красно-коричневый шкаф, уже вышедший из моды. Ко мне подходит хозяин. Это – Володя Высоцкий. Он говорит о том, что многое понял в жизни за последнее время, пока размышлял здесь. И цель жизни он видит нынче в совершенствовании человека. Потом начинает что-то рисовать и объяснять. Я понимаю, что это – космогоническая схема. В ее центре – пятиугольник, от которого симметрично отходят какие-то эманации, похожие на языки пламени или перья птицы. Он их тщательно заштриховывает снизу. Одни «перья» оставляет пустыми, другие зарисовывает черной тушью. Я говорю: «Да, это интересно. Я ни разу не видела такого». Черные перья и перья слева – это первый круг. Он объясняет, что это по кругам исходящие из центра энергии. Я провожу пальцем от центра, по черным перьям и обратно. Он говорит, что исходный импульс – это как бы бессрочно выданный долг, который все эти перья берут у центра «взаймы без отдачи». Это мы уже юморим. И он вспоминает случай из своей жизни, когда видел заранее образы финансовой помощи, которая к нему и приходила потом.
Вот так мы побеседовали. Когда я возвратилась к тем, с кем пришла, то застала их плачущими. Оказывается, они узнали, что хозяин умер. Но как же умер, если я только что с ним говорила? И я не плачу, я только думаю над разговором. А вчера, двадцать пятого июля, был день смерти В.С.Высоцкого.
14.09.94
ВОИНЫ
Непоколебимый воин, владыка милосердия, в своих боевых доспехах, с мечом и в латах, возвышается над домами и деревьями. Правой рукой он делает жест сострадания, протянув руку открытой ладонью навстречу всем живым существам. Я вижу его, стоящего через дорогу, из своего окна, вдали и слева от себя. Он огромен и как бы прозрачен. А напротив меня, но тоже через дорогу, стоит еще один воин, он моложе. И улыбается, опираясь на меч. А на небе висит серп луны и на нем белые буквы.
08.10.94
СТЕНА-ОКНО
Видела себя в пустой комнате, отделанной голубым кафелем. Вроде тут мы рисуем, это наша студия. Учитель объясняет, что такое объем. Передо мной стена, но я знаю, что это только маскировка, и стоит захотеть, она превратится в окно. Так и происходит. Это окно с видом на осенний сад. Тут оно снова превращается в стену.
21.10.94
НОЧЬ В МУЗЕЕ
Всю ночь просидела в каком-то музее, в красивой, с натуральным паркетом, комнате. Вокруг под стеклом лежали разные экспонаты: каменные фигурки из полудрагоценных и поделочных камней, блестящие русские средневековые шлемы, отделанные золотом, и много других разностей. Но я прилипла к книге, которую читала за низким столиком, сидя в кресле. Это была иллюстрированная история искусства, где как раз и говорилось об экспонатах музея. Там я прочла довольно много интересного, все было написано как-то необычно. Хотела прочитать до конца, прежде чем отправиться по залам, но времени уже не было, скоро я должна была проснуться, я это знала.
20.11.94
У МЕНЯ ЕСТЬ ГОРЫ
Выглянув в окно в зале, вижу красивый пейзаж. Гористая местность, одна гора с серой осыпью щебня, по ней рассыпаны редкие валуны. Я горюю, почему я не живу здесь, в комнате с таким видом. А ну-ка, пойду, сравню с видом из своей спальни. Иду к себе. Выглядываю из окна и застываю в невольном удивлении: это вид с огромной высоты. Внизу распростерлись заснеженные горные пики, и хребты сияют своей белизной. Так красиво! Ведь я никогда не видела гор зимой. Вглядываюсь в детали пейзажа – все выглядит настолько реально, что я не различаю, во сне я смотрю в окно или наяву. И небо такое же облачное, дымчато-серое, как сегодня, ранним утром.
24.11.94
НЕСУ КАМНИ
У меня (в убежище или в маленьком домике) в одном окне нет стекла. Отверстие заложено камнями, но их не хватило закрыть проем до конца, и оттуда дует. Иду искать камни, нахожу целую груду плоских валунов и, сложив их стопкой, беру в охапку и несу перед собой.
17.01.95
СВЕТЛЫЙ
Вхожу в низенькую белую арку. Это чисто побеленное жилище, похожее на древнерусские палаты. В комнатке справа уютно, она наполнена светом, теплый луч падает из окошка. Подхожу к живущему там человеку. Не вижу его лица, он весь сияет. Смотрю и любуюсь им. Вдруг Светлый будто отдает мне часть своего света, протягивая ослепительный сгусток в ладонях.
20.02.00
МИР-ШИРМА
Утром какое-то видение в полусне было: все предметы в моей комнате отодвигаются, как старое кресло или диван, а за ними обнаруживается вселенная, мерцающие звезды. Весь феноменальный мир – это только театральная ширма. Я заглянула за край мира и все поняла.
14.06.00
ОРЛЫ И ПАНТЕРЫ
Вздрагиваю от тонкого, протяжного, вибрирующего звука. Это крик птицы, он зовет меня к окну. Подхожу и замираю: на меня, не мигая, неподвижно смотрят застывшие в воздухе, с распростертыми крыльями, белоголовые орлы. Два одинаковых орла в двух половинках окна. Магический взгляд их глаз гипнотизирует меня, приковывает к себе. Так некоторое время мы смотрим друг другу в глаза. И вдруг я замечаю метаморфозу. Это уже не два орла с черными крыльями, это две черные пантеры со светящимися в ночи глазами. Но кричат они по-орлиному. Они тоже долго смотрят на меня и как-то внезапно ускользают, я вижу их убегающими за угол дома напротив, что стоит через дорогу. Теряются в ночи.
03.07.01
БИНАРНОСТЬ
Повторяющийся сон годичной давности, но в сниженном виде: в мое окно смотрят две вороны (за одной из них идет, прижимаясь, воробей). Потом два огромных грифа, глаза их черные, как у обезьян, а не как у птиц. Две черные кошки и две черные собаки. Одна собака прыгает в окно, но оно не разбивается.
29.08.04
СОВМЕСТНЫЕ СНОВИДЕНИЯ
Вчера мы выяснили, что видим во сне время от времени одну и ту же квартиру. Это очень странная большая коммуналка, переделанная в отдельную квартиру. У нее круговые комнаты, проходы из одной в другую, комнаты окружены длинным коридором. Одна комната пустая, нежилая, а другие заполнены старыми вещами прежних хозяев, которые не то умерли, не то уехали. И мебель вся старая. Запомнилась железная кровать с шишечками на спинках и светлые шифоньеры. В моих снах эта квартира находится в Питере, на первом этаже. А моя собеседница уточнила, что там есть большая ванная комната, вся затянутая паутиной, с маленькой ванной в углу. Я видела, что мы будто там живем и собираемся в Москву ехать. Мы много смеялись, описывая друг другу эту квартиру, соглашаясь с тем, что и как там выглядит. Странно, что двум людям может сниться одно и то же место. Значит, они реальны и объективны, эти совместные сновидения.
07.04.14
МАЛЬЧИК С КЛЮЧАМИ
Я заперта за железной дверью у какого-то Кащея. Вдруг нашла, как можно отсюда выходить: становиться невидимой. И я вылетаю незамеченной в темный парк, там встречаю мальчика лет семи, он берет меня за руку, мы бежим. У него на шее связка маленьких желтых ключиков. Он достиг третьего ключа – третьего уровня мастерства бега. И правда, бежит очень быстро и тянет меня за собой, я еле успеваю за ним, но стараюсь. Мы бежим из темного парка на вокзал, и вот он уже маячит вдали…
20.05.14
СТАРИК
Я должна была войти в комнату к странному старику, который долго, как в анабиозе, спал там при закрытой форточке. Надо отодвинуть плотные черные шторы. Мне неприятно, но я готовлюсь это сделать. Приближаюсь. И шторы, уже цветные, сами отодвигаются. И выходит этот старик тоже сам. Облегченно вздыхаю и улыбаюсь.
Сейчас я еще немного постою на балконе и вернусь в комнату. Здесь, на балконе, над моей головой, кобальтовое небо. Оно движется надо мной по кругу, расширяется, образуя купол, и утекает за горизонт, за серебристые Иорданские горы, скрытые воздушной перспективой. Я стою высоко, настолько высоко, что птицы пролетают мимо, и от этого кружится голова. Дом мой поднят горой, он парит вместе со мной над Иудейской пустыней, струящейся золотом, над немногочисленными домами внизу, на переднем плане, и над уменьшенным растоянием толстым соседом в неизменно сползающих с живота брюках, копошащемся в капоте своей машины.
Я должна вернуться в комнату. То нечто, что с сегодняшнего утра находится в ней, тревожит меня весь день. Обычно комната моя бела и залита солнцем. Если следовать мыслью по часовой стрелке от входной двери, окрашенной в белый цвет, то сначала будет небольшой участок белой стены, затем боковая поверхность шкафа, облицованного белым, гладкая белая дверца с продолговатой металлической ручкой (на ней всегда — блики от солнца), затем подряд три дверцы, превращенные в длинные вертикальные зеркала, от самого пола, и, наконец, еще две, просто белые и гладкие, похожие на первую, но без ручек. Я слежу за тем, чтобы зеркала всегда были чистыми. Тогда они исчезают, и на их месте я вижу сложное белое пространство, чем-то напоминающее противоположную часть комнаты. Шкаф же вплотную примыкает к боковой стене, окрашенной, как и вся комната, белым мелом для внутренних работ. Миную пустой участок этой стены, сантиметров сорок, не более, и мысль моя утыкается в белый рояль. Но его, к сожалению, нет в моей комнате, поэтому следуем дальше, минуя его. Кровати тоже нет, она, по-видимому, где-то в спальне. От кровати по утрам на полу остается только размытая тень сна и небольшое грязное пятно на стене – наверное, от прикосновения чьих-то рук. Маленький полукруглый стеклянный столик притулился под ним – неброское творение ИКЕИ явно хочет притвориться озером, отражая кусочек неба и пролетающую птицу, взятую им взаймы у проема балконной двери. Отражение птицы движется справа налево, и от этого я переключаюсь на иврит. Мелафефон малуах. Древние буквы заставляют меня скользнуть взглядом в предложенном ими направлении, вдоль стены, на которой вибрирует солнечный зайчик – от чего? – ответа нет, зато белая стена тускнеет от касания с ярким подвижным бликом – отсветом далекой планеты, на которой, как говорят, тоже есть пятна. Еще шаг – и вот они, мои работы, повешенные? развешенные? подвешенные? на стене, один над (под?) другим четыре холста (20 на 20 см каждый) на подрамниках. Я покрыла их сияющим золотистым песком пустыни, впустив в свою комнату миллиарды песчинок. Ли Хунчжи (Li Hongzhi, “Zhuan Falun”, The Universe Publishing Company, 2000) ссылается на высказывание Будды Шакьямуни о том, что «на микроскопическом уровне одна песчинка содержит три тысячи миров». Она подобна вселенной, полной жизни. Есть ли песок во вселенной, находящейся в той песчинке? Имеются ли три тысячи миров в каждой песчинке всего песка, находящегося в той первоначальной песчинке? Шакьямуни сделал следующее утверждение: «Вселенная настолько огромна, что невозможно достичь ее предела, и настолько микроскопична, что также невозможно достичь ее мельчайшей составной части». «Ты всего лишь песчинка в пустыне», – сказал Бродский. «Псаммит», – ответил ему Архимед. Одна песчинка отвалилась от моей работы и оказалась на табуретке (тоже ИКЕА), на белом пластиковом диске, предназначенном для сидения. Аккуратно кладу эту крупицу вселенной на ладонь и несу через комнату на балкон. Она падает вниз и теряется из виду. Сейчас я еще немного постою на балконе и вернусь в комнату.
PS. Утром пришло письмо от Лики.
«Здравствуй, дорогая Галенька, – писала Лика. – В жизни моей наступил новый период. Помнишь ли ты Сенечку, который когда-то работал со мной в театре на Моховой? Так вот, иду я на днях по своей Рихардштрассе, и бац – знакомое лицо навстречу!»
Увы, Сенечку я не помнила.
Иерусалим, Неве Яков
2001
Книга о фильме про путешествие к Комнате
«Я смотрел фильм до тех пор, пока он не превратился в своего рода слепоту».
Дж. С. Уолдреп «Д. У. Гриффит в Геттисберге»
«В конце концов, лучший способ говорить о том, что вы любите, говорить беспечно»
Альбер Камю «Краткий путеводитель по городам без прошлого»
Ребекке
1.
Пустой бар, возможно, еще не открытый, с единственным круглым столиком, размером чуть выше обычного, к которому можно прислониться — табуретов нет — чтобы стоять и выпивать. Если бы половицы могли говорить, похоже, они рассказали бы пару историй, хотя истории оказались бы привычными, заканчивающимися одними и теми же жалобами после нескольких рюмок. Такое происходит в барах по всему миру. Другими словами, мы находимся в царстве универсальной истины. Бармен входит с черного хода — на нем белая барменская курточка — закуривает и включает свет, две люминесцентные лампы, одна из которых плохо работает и мерцает. Он смотрит на мерцание. Он думает «Нужно починить», что отличается от «Починю сегодня» и почти то же самое, что «Никогда не починю». Повседневная жизнь полна этих маленьких повторяющихся удивлений, надежд (что все может каким-то образом наладиться за одну ночь) и смирений (это не произошло и не произойдет). Высокий мужчина — посетитель — входит в бар, ставит рюкзак под столик. Он не молод, лысеет, явно не террорист, и в рюкзаке не может быть бомбы, но это ничем не примечательное действие — поставить рюкзак под столик — не останется незамеченным, особенно теми, кто впервые смотрел «Сталкер» в воскресенье, 8 февраля 1981 года вскоре после «Битвы за Алжир». Он что-то заказывает. Белая курточка бармена не очень чистая. Она, возможно, служит и полотенцем, не исключено, что даже кухонным, а может, и вообще носовым платком. Это место выглядит грязным, но из-за того, что оно слишком грязное, сказать наверняка невозможно, а титры желтыми русскими буквами — научно-фантастическая кириллица — не проясняют ситуацию.
Именно такие бармены встречаются перед тем, как все пойдет наперекосяк, и он из тех, кто ни на что не обращает внимания, ничто его не касается, и чем больше вещей его не касаются, тем лучше, даже если это означает, что бизнес идет настолько медленно, что его почти не существует. С его точки зрения, пока он здесь в грязной курточке и ничего не происходит, значит ничего и не нужно менять (сломанная лампа может подождать, как и все остальное), и все в порядке, и с ним в том числе. С сигаретой во рту он тащится с кофейником (он один из тех, кто умеют придавать простейшему действию злорадный оттенок, представляя это подвигом Геракла за минимальную оплату), наливает незнакомцу кофе и оставляет его наедине. Незнакомец потягивает кофе и ждет. Нет никаких сомнений: незнакомец определенно чего-то или кого-то ждет.
Титры: «…Что это было? Падение метеорита? Посещение обитателей космической бездны? Так или иначе, в нашей маленькой стране возникло чудо из чудес – ЗОНА. Мы сразу же послали туда войска. Они не вернулись. Тогда мы окружили ЗОНУ полицейскими кордонами… И, наверное, правильно сделали…»
Титры были добавлены по просьбе «Мосфильма», который хотел подчеркнуть фантастическую природу Зоны (где будет разворачиваться действие). Чиновники не хотели, чтобы «буржуазную» страну, где все происходит, отождествляли с СССР. Следовательно, таинство с Зоной произошло — согласно титрам — «в маленькой стране», что сбило всех с толку, потому что СССР, как мы знаем, занимал огромную территорию. «Россия…» — я прямо слышу, как Лоуренс Оливье произносит это в эпизоде «Барбаросса» сериала «Мир в состоянии войны». «Бескрайние просторы России». Столкнувшись с немецким вторжением в 1941 году, русские прибегли к традиционной стратегии, которая сработав с Наполеоном, сработала и с Гитлером: «Обменяйте пространство на время», — послание, которое Тарковский принял близко к сердцу.
Звук капающей воды. Мы заглядываем через дверь внутрь. В сценарии фильма сокращение «Вн» означало «внутреннее», а «Вне» внешнее. Камера уже внутри, на несколько дюймов глубже. Похоже, что Тарковский начал с того места, где остановился Антониони в знаменитом «кадре наизнанку» в конце «Профессия: репортер», и продвинулся «изнутри внутрь». Так же медленно, но без цвета. Ранняя картина Антониони «Красная пустыня» (1964), как следует из названия, была немыслима без цвета. Цвет — зеленое пальто Моники Витти — вот что делает фильм замечательным. Но для тридцатичетырехлетнего Тарковского, у которого Антониони брал интервью в 1966 году после окончания съемок второго полнометражного фильма «Андрей Рублев», это был «худший из фильмов после «Крика». Из-за цвета, потому что Антониони соблазнили «рыжие волосы Моники Витти на фоне тумана» и «цвет убил ощущение правды». Но уберите цвет, и с чем останетесь? Я полагаю, с «Приключением» (где также снималась Моника Витти), вам скучно, вы жаждете цвета, чего-либо, что могло бы скрасить время или вы перестали думать о том, что оно не движется. Поскольку мы говорим о правде и о том, какова она на ощупь, хочу признаться, что «Приключение» это фильм, ближе всех приблизившийся к кинематографической агонии. Я смотрел фильм летом в крошечном кинотеатре в Пятом округе Парижа, где экран был размером с большой телевизор. (Черно-белый фильм на итальянском языке с французскими субтитрами, в Париже, в августе, когда тебе еще нет тридцати: просто тематическое исследование одиночества). Я выжил, смирившись с тем, что не могу выносить это ни секунды больше, хотя в «Приключении» нет такого понятия, как секунда. Минута была минимальным шагом временного измерения. Каждая секунда длилась минуту, каждая минута длилась час, а час год, и так далее. Время измерялось по-другому. Когда я наконец вышел в парижские сумерки, мне было уже за тридцать. (1)
Описывать черно-белое в «Сталкере» как черно-белое, значит окрашивать то, что мы видим. Технически эта концентрированная сепия была получена путем съемки на цветную пленку и проявкой ее как черно-белой. В результате получился своего рода субмонохром, в котором спектр настолько сжат, что оказался источником энергии, похожим на нефть, почти таким же темным, но с золотистым отливом. Помимо капающей воды, слышны скрипы и другие жуткие звуки, которые нелегко объяснить. Сейчас мы в комнате и смотрим на кровать.
Столик, прикроватная тумбочка, по определению намного ниже, чем столик в баре. Грохот поезда приводит к тому, что стоящее на столе дребезжит. Вибрации достаточно, чтобы стакан с водой задрожал и проехал полстола. Помните о том, что в «Сталкере» нет случайностей. И в то же время в нем полно случайностей. Рядом со столом, в кровати, спит женщина. Рядом с ней маленькая девочка в платке на голове, и мужчина, который, предположительно, ее отец. Грохот поезда становится громче. Все трясется. Удивительно, что кто-то может спать под такой грохот, особенно учитывая, что из поезда звучит «Марсельеза». Камера перемещается по людям в постели, возвращается назад, очень медленно перемещается в одну сторону, затем так же медленно в другую. Антониони любил длинные дубли, но Тарковский пошел дальше. «Если увеличить обычную продолжительность кадра, человеку станет скучно, но если вы сделаете его еще длинней, это вызовет интерес, а если еще длинней, появится новая, особая интенсивность внимания». Такова эстетика Тарковского в двух словах. Поначалу может возникнуть трение между ожиданием времени и временем Тарковского. Это трение усиливается в двадцать первом веке по мере того, как мы всё дальше и дальше уходим от времени Тарковского ко времени идиотов, в котором ничего не длится и никто ни на чем не может сосредоточиться дольше, чем на две секунды. Скоро люди физически не смогут смотреть «Взгляд Улисса» Тео Ангелопулоса или читать Генри Джеймса, потому что у них не хватит концентрации, чтобы перейти от одной бесконечной сцены или предложения к следующим. Время, когда я мог бы прочесть Генри Джеймса позднего периода, прошло, и поскольку я не читал Генри Джеймса позднего периода, я не могу сказать, какой вред нанес себе. Но я точно знаю, что если бы я не посмотрел «Сталкер» в возрасте двадцати с небольшим, моя восприимчивость мира была бы радикально ниже. Что касается «Взгляда Улисса», то, несмотря на неправдоподобного Харви Кейтеля, это был еще один гвоздь в крышку гроба европейского художественного кинематографа (гроб, как сказали бы циники, полностью построенный из гвоздей). Он открыл шлюзы всему, что не было искусством, потому что предпочтительнее делать что угодно, но только не досматривать фильм, тем более что всё можно было свести к одной неподвижной фотографии — статуя Ленина, плывущая по Дунаю на барже, словно окаменевший фараон, плывущий по историческому Нилу — работы Йозефа Куделки.
Грохот поезда стихает, слышен только звук капающей воды и мы возвращаемся к кровати. Мужчина просыпается и встает с постели. Необычно то, что он спит без брюк, но в свитере. Долгое время я думал, что американские мужчины на самом деле спят в нижнем белье. Мне и в голову не приходило, что это кинематографическая условность и на экране им просто нельзя быть голыми. Спать без брюк, но в свитере не имеет смысла с точки зрения любой системы условностей. Это кажется странным и не очень гигиеничным. Еще одна странность заключается в том, что он старается не разбудить жену, надевает брюки и тяжелые ботинки и тихонько выходит на кухню. Полагаю, если жена может спать под грохот проходящего поезда и рев «Марсельезы» — не говоря о других окружающих стонах и поскрипываниях — тогда его передвижения не будут иметь большого значения. Возможно, жена только притворяется спящей. Мы видим его со спины. Мужчина — а он не кто иной, как Сталкер — выходит из спальни и заглядывает внутрь через дверь, как камера смотрела несколькими минутами ранее, когда он был в постели, разница в том, что его там больше нет. По любым меркам, это медленное начало фильма. Чиновники из Госкино, центрального государственного агентства по кинематографии СССР, жаловались, говоря, что фильм мог быть «намного динамичней, особенно в начале». Тарковский взрывался: на самом деле вначале нужно было быть еще медленнее и скучнее, чтобы у случайного зрителя было время уйти до начала действия. Застигнутый врасплох жесткостью ответа, один из чиновников объяснил, что просто пытался взглянуть с точки зрения аудитории… Он не договорил. Тарковскому было плевать на публику. Его интересовала точка зрения только двух людей, Брессона и Бергмана. Засунь это в трубку и скури! (2)
Мужчина отходит вправо, но камера остается там, где он был, видя то, что он видел, но чего больше не видит, а именно жену, неуклюже вылезающую из постели. Он идет на кухню. Открывает кран, включает бойлер, чистит зубы. Загорается лампочка. Видит бог, немного приукрасить это место не помешало бы. Тарковский всегда был противником символического прочтения образов в своих фильмах, но возникает вопрос об этой лампочке: неужели человеку пришла в голову блестящая мысль? Но оказывается, не такая уж и блестящая: лампочка вспыхивает очень ярко, затем полностью гаснет, будто перегорела. Неясно, в какой стране происходит действие, но с освещением здесь проблемы.
Но есть и более серьезная проблема — жена. Либо она бодрствовала, либо разбужена поездом, «Марсельезой» и шумом мужа. Она превращает затемнитель в осветлитель, делает помещение таким ярким, что секунду спустя оно погружается в темноту. Очевидно, в доме надо менять проводку.
Вам знакомо это выражение «знаменитые последние слова»? Нам интересны последние слова людей, но полезно составить и список первых слов — не просто звуков, а реальных слов, — произнесенных в фильмах, прогнать их через компьютер и подвергнуть анализу. В этом фильме первые слова произносит жена: «Ты зачем мои часы взял?» Да, фильм едва начался, она только проснулась и, с точки зрения мужа, уже ворчит. Придралась и назвала вором. Неудивительно, что он хочет уйти. Это важная тема: время. Тарковский обращается к зрителям: забудьте о прежних представлениях о времени. Перестаньте смотреть на часы, это не будет происходить со скоростью света, но если вы отдадитесь времени Тарковского, то беспорядочный хаос «Ультиматума Борна» покажется вам более утомительным, чем «Путешествие». «Думаю, что человек обычно ходит в кино из-за времени, — говорил Тарковский, — либо потерять впустую, либо приобрести его». Эти слова так же «хороши», как и слова «Люди идут в кино для того, чтобы хорошо провести время, а не сидеть там и ждать, когда что-то произойдет». (Некоторые не придерживаются единого мнения, зачем ходить в кино. Они вообще туда не ходят. Для Страйка, персонажа романа Ричарда Прайса «Толкачи», любой фильм это просто «девяносто минут сидения», замечание, которое можно воспринимать как подтверждение слов Тарковского.
Жена расширяет представление о времени — она теряет свои лучшие годы, стареет, — пока мужчина чистит зубы. И снова вспоминаем Антониони, потому что она не Моника Витти. Честно говоря, сочетание раздражающего и блеклого внешнего вида кажется убедительным стимулом для ухода. Она возлагает на него всю вину, но обычные слова — ты думаешь только о себе — меняются местами, в некотором роде по Достоевскому: даже если ты не думаешь о себе… (3)
Она умоляет его остаться, при этом видно, что понимает бессмысленность просьбы. Он уходит, не говоря куда. Она кричит, что он опять попадет в тюрьму. Он отвечает, что для него везде тюрьма. Хороший ответ. Но плохой знак для брака. Кажется, их отношения достигли той точки, когда стандартный способ общения — препирательства и ссоры. В этом не так уж много веселья, но освоиться легко, а вот выбраться чрезвычайно трудно: по сути, это тюрьма. Можно предположить, что ответ мужчины метафорический. «Сталкер» снят в конце 1970-х, а не в 1930-х или 1950-х годах, когда Советский Союз был огромным концлагерем, когда на тюремно-лагерном сленге (как указывает Энн Эпплбаум в «ГУЛАГе») «мир за колючей проволокой назывался не «свободой», а «большой зоной», она обширней по территории и менее смертоносна, чем «малая зона» лагеря, но не более человечна, и уж точно не более гуманна. Ко времени выхода «Сталкера» коммунизм стал, по словам Тони Джадта, «образом жизни, который нужно терпеть» (что, кстати, звучит как альтернативный перевод койяанискаци, слова индейцев хопи, означающего «путь жизни, нуждающейся в переменах» или «жизнь, потерявшая равновесие»). «Сталкер» это не фильм о ГУЛАГе, но он постоянно приходит на ум от зековской стрижки Сталкера, от особой лексики фильма. Наиболее опасной частью Зоны является так называемая «мясорубка», еще один термин из языка заключенных, означающий процедуры советской репрессивной системы. (4)
После того, как Сталкер уходит, у его жены случается один из тех сексуальных припадков (заметны торчащие соски), которые, похоже, нравились Тарковскому, и она корчится на жестком полу в кульминации брошенности. (5)
А он, как и многие мужчины, направляется в бар, пробираясь по железнодорожным путям, красиво пустынным и покрытым лужами, в постиндустриальном тумане. (6)
Пока мужчина идет по рельсам, голос за кадром говорит, что все «невыносимо скучно», замечание, которое вновь заставляет задуматься, как быстро фильм может надоесть. Но разве он не захватывающий и стремительный, если способен так быстро окутать зрителя вызывающим зуд одеялом скуки? (Возможно, одна из новинок нашей эпохи это возможность мгновенной скуки — как растворимый кофе — в противоположность чувству, которое должно проявляться постепенно, удушающе, с течением времени.) Подслушанный голос порождает путаницу: чьи это слова? Предположительно, это мысли Сталкера, бредущего по железнодорожным путям в туманной дымке, держа руки в карманах.
Но оказывается, это другой мужчина, разговаривающий с женщиной в милой меховой накидке. О-о-о! Собеседник все еще продолжает говорить о том, как все невыносимо скучно. Она спрашивает его о Бермудском треугольнике. Он еще немного рассуждает о том, как все скучно, возможно, даже Зона скучна, возможно, было бы интереснее жить в Средние века. Что он имеет в виду? Может он о том, что предпочтительней сниматься в «Андрее Рублеве», чем в «Сталкере»? В этом есть смысл, потому что он любимый актер Тарковского, Анатолий Солоницын, тринадцатью годами ранее сыгравший главного персонажа в «Андрее Рублеве». Женщина же выглядит сбежавшей со съемочной площадки Антониони. На ней не только меха и длинное платье, она стоит у автомобиля с откидным верхом и пьет из высокого прозрачного бокала, как будто только что вышла оттуда, где приближается оргия, но которая так никогда и не случится в «Красной пустыне». Они находятся в каком-то порту (то же самое в «Красной пустыни»). На заднем плане корабль, такелаж, буровые вышки.
С первых кадров очевидно, что Сталкеру не нравится эта пара, хотя мужчина говорит, что женщина, чье имя он, впрочем, не может вспомнить, тоже согласна пойти в Зону. Честно говоря, одета она совсем не для экспедиции. Она взволнована встречей с настоящим Сталкером, вокруг этой темной касты преступников особая аура, но он говорит ей: «Идите нахуй». Это мужской мир, Зона. Она садится в машину и, задержавшись только для того, чтобы назвать Солоницына кретином (или, может, говорит ему, что Сталкер кретин), уезжает с его шляпой на крыше. Это первый из забавных моментов в фильме. (7)
Сталкеру не понравилось, что мужчина привел женщину, и не в восторге от того, что мужчина пьян. Да, я пил, признается тот, но не пьян. «Одна половина народонаселения пьет, другая половина напивается», — говорит он. Является ли это отражением употребления алкоголя в СССР? Это то, по чему Тарковский будет скучать? (8) Пару раз в своих дневниках Тарковский говорит о том, что готов напиться и «уйти в запой», но у Сталкера неоднозначный взгляд на выпивку. Кроме Зоны у него на все неоднозначный взгляд. Мужчина делает глоток из бутылки; в другой руке он сжимает пластиковый пакет, как подросток припрятанный клей.
Сталкер входит в бар, в тот самый, который мы видели ранее. Условно говоря, клиенты прибывают потоком. Счастливый час в месте, которое выглядит так, будто людям этот час нужен. Окнам, как и куртке бармена, не помешала бы чистка. Они дают самое смутное представление о внешнем мире. За Сталкером следует мужчина, который угощает нас очередным фарсом, убедительно поскальзываясь на ступеньках. Шутки начинают сыпаться густо и быстро, здесь практически Бастер Китон. Бастер Китон в своем подзабытом классическом «Счастливом часе», снятом по лекалам соцреализма.
Высокий мужчина все еще здесь, пьет кофе, а бармен все курит. Не в последний раз мы возвращаемся к тому, с чего начали. Не нужна вывеска, чтобы понять, что это салун «Последний шанс». Есть шанс получить приличный капучино? Ноль. Неразбавленная водка? Сталкер говорит: давайте, выпейте, и когда другой достает бутылку (он принес ее с собой в бар, словно мы в Ньюкасле) Сталкер велит ему убрать. Ладно, говорит мужчина, следуя излюбленной алкоголиками софистике, вместо этого выпьем пива. Бармен наливает пива. Сталкер бросает взгляд на часы, украденные у жены, это жест нетерпения и тревоги, которые зрители могут не разделять. Все время, пока бармен наливает напиток, мужчина держит бокал в руках, словно хочет увидеть что-то, что находится внутри. Когда бармен заканчивает, он выпивает бокал залпом и к тому времени, когда бармен закончит наполнять два других, будет готов снова. В центре Зоны находится Комната, место, где — как мы узнаем позже — сбываются самые сокровенные желания, но создается впечатление, что этот бар и есть его Комната, его самое сокровенное желание исполняется прямо здесь, за бокалом пива. (9) Он приносит Сталкеру и высокому мужчине бокалы. Собирается представиться, но Сталкер (которого играет Александр Кайдановский) говорит, что того зовут Писатель, а высокого зовут Профессор (Николай Гринько). Вот и намек на ограбление: мистер Пинк, мистер Уайт и все такое: общие кодовые имена в стиле «Бешеных псов». Неужели Сталкера заманили в Зону для выполнения последнего задания?
Каждый раз, когда я вижу, как люди пьют в фильмах, меня сразу же охватывает желание выпить самому. В определенных странах — то есть в фильмах, снятых в определенных странах, — определенные напитки, как правило, выглядят особенно привлекательно. Французские фильмы вызывают тягу к красному вину, но белое с a château на этикетке тоже неплохо. Виски хорошо смотрится в вестернах. (Мужчины, с важным видом расхаживают по салунам, мучимые жаждой после перегона скота). Пиво хорошо смотрится где угодно. И не только в фильмах. В большинстве стран мира, даже в самых дерьмовых, как правило, можно найти пиво, которое, как говорится, можно пить. Говоря о пиве, нам интересно собирается ли Сталкер пить его. Но только Писатель пьет. Профессор стоит со своим кофе, а Сталкер встревожен. Писатель пьет — возможно, его следовало бы назвать Пьяницей, — и больше всех говорит. Когда Профессор спрашивает его, что он пишет, он говорит, что пишет «ни о чем». Выходит, он флоберианец. В письме от 1852 года Флобер объявил о желании написать «книгу ни о чем, книгу, не зависящую ни от чего внешнего, которая держалась бы на внутренней силе стиля, точно так же, как земля, подвешенная в пустоте, не зависит ни от чего внешнего; книгу, в которой не было бы сюжета или, по крайней мере, в которой сюжет был бы почти незаметен». В этом направлении, полагал Флобер, лежит «будущее искусства»: «Больше нет никакой ортодоксальности, и форма так же свободна, как воля его создателя». По сравнению с голливудским кинематографом, ориентированным на контент, это звучит как предсказание того, чего добился Тарковский в «Зеркале» (фильме, который он снял до «Сталкера»): очевидно, что это не фильм ни о чем (он в равной степени может претендовать на фильм обо всем), но его объединяет уникальный стиль режиссера — «воля создателя», а не механические требования повествования или «бремя традиций». Флобер завершает интерлюдию размышлений наблюдением, которое взято словно из дневников Тарковского: «С точки зрения чистого искусства можно принять аксиому, что субъекта нет, а стиль является абсолютным взглядом на вещи».
Как бы то ни было, они стоят вокруг столика, беседуют и выпивают, хотя на самом деле большую часть разговоров и выпивки берет на себя Писатель и, в освященной веками традиции пьянства, повторяется. Он снова твердит о треугольниках, как раньше в разговоре с женщиной. Треугольники это, треугольники то. Он задается вопросом, зачем Профессор отправляется в Зону, но затем пускается в долгое объяснение, зачем туда идет сам и чего ищет. Оказывается, за вдохновением. Он выброшен на берег. Выжат. Может быть в Зоне он восстановит силы. О, я знаю, что он чувствует. Я мог бы и сам отправиться туда. Неужели вы думаете, что я стал бы тратить время на фильм, почти лишенный действия, кадр за кадром, если был способен написать что-нибудь еще? Я направляюсь в Комнату вслед за этими тремя спастись. (10)
Все время, пока продолжаются разговоры, камера приближается, контакт становится плотнее, но так незаметно, что вы не замечаете как это произошло, пока не начинаете практически облокачиваться на стол вместе с ними. Часто у Тарковского, когда мы думаем, что все по-прежнему, это не так. Кадр слегка сжимается или расширяется, словно фильм дышит.
Мы слышим гудение поезда, слышим одинокий свисток. Итак, у этого мрачного бара действительно есть несколько преимуществ — если под «несколько» мы подразумеваем «одно», а именно близость к железнодорожной станции. Свисток становится громче. «Слышите? Это наш поезд», говорит Сталкер, проверяя свои, то есть жены, часы. (11) Они собираются покинуть бар. Никто не говорит: «Допиваем», но и так все понятно. Камера приближается к Сталкеру, который просит Люгера, мрачного бармена — тип настолько сильный в своем молчании, что мог бы работать актером еще в 1920-х годах, до появления звука, — что если он не вернется, позвонить жене. Зачем? Выразить соболезнования? Прийти и молча выкурить сигарету? Есть ли шанс, что она выстирает ему куртку? После своей просьбы Сталкер смотрит прямо в камеру. Писатель собирается покинуть бар, мы видим его затылок, а затем он поворачивается и тоже смотрит прямо в камеру, так что на мгновение, в соответствии с правилом обратного кадра, Сталкер и Писатель уставились друг на друга. Также кажется, что они смотрят на нас. Это противоречит словам Ролана Барта о том, что, на фотографии субъекту разрешено смотреть в объектив на зрителя, а «актеру запрещено смотреть в кинокамеру». Барт был настолько убежден в этом правиле, что был недалек от того, чтобы рассматривать этот запрет как отличительную черту кинематографа. «Если хоть один взгляд с экрана остановится на мне, весь фильм будет потерян». В данном же кадре эффект заключается в том, чтобы убедить нас во взаимности их взглядов. Мы тоже отправляемся в путешествие. Мы — одни из них.
Они/мы выходим наружу. Сталкер что-то несет, наступая прямо в лужи. Это не случайно. Как бы то ни было, Сталкер человек с макартуровским безразличием к тому, чтобы промочить ноги. Они забираются в ожидающий их джип. Теперь свисток звучит постоянно. Идет дождь, и фары джипа кажутся белыми в полумраке и сырости. Сталкер за рулем. Хотя мы не видим дождь — он моросит, а не льет — видим лужи и капли, падающие в лужи, и фары, отражающиеся в лужах, и джип, проезжающий по лужам. Джип проезжает заросли кустарника, сырые и мрачные переулки, в которых стоит туман. Джип выбран идеально. Ни одно другое транспортное средство не подошло бы лучше. Mini Cooper напомнил бы итальянскую Nostalghia, а изящный кабриолет с откидным верхом, который видели в начале, придал бы нотку гламура, а вот джип, несмотря на все его неудобства, отсылает к диверсионному подразделению британской армии, к каждому автомобилю, когда-либо снятому в фильмах о Второй мировой. Это самый понтовый из транспортных средств, предназначенный для фанатичных генералов (Паттон) и бесстрашных военных фотографов (Капа), и не знающий о правилах дорожного движения. Это синоним абсолютно сурового и мужского приключения. Они коммандос эти трое (один из них окажется экспертом по взрывчатке), добровольцы, участвующие в дерзком рейде в тыл врага, в котором нет и намека на сериал «Бабье лето».
Когда джип заворачивает за угол, они слышат звук заводящегося мотоцикла и падают вниз. На выходе «Сталкер» был заявлен как своего рода научно-фантастический фильм, и это начало самого научно-фантастического эпизода в фильме, хотя в целом Тарковский был доволен тем, что ему удалось избавиться от большинства фантастических элементов, чего не смог сделать в «Солярисе», который остался в рамках жанра (трудно такое избежать, если действие происходит в будущем, на космической станции) и по этой причине Тарковский фильм не любил. (12)
Мотоциклист патрулирует периметр. На нем кожаная форма и белый шлем и он выглядит как охранник из «Метрополиса» или «1984». Неизбежно, что теперь, когда определенные знаменательные даты в календаре научно-фантастических проекций — 1984, 2001 — появились и канули в историю, большая часть жанра приобрела антикварный характер, стала ориентированным на будущее подразделом костюмированной драмы. Одна из возможных интерпретаций — последовательность событий такова, что Сталкер и его спутники пытаются вырваться из тисков самой истории, из разрушительного видения будущего, провозглашенного Марксом, которое через десятилетие после выхода фильма объявит себя устаревшим и обанкротившимся.
Далее следует автомобильная погоня в пространстве, похожим на незавершенный проект Artangel. Эти заброшенные склады словно из Лондона тех дней, когда я впервые увидел «Сталкер». Я говорю «автомобильная погоня», но есть только одна машина, джип, и непонятно, куда именно направляется Сталкер. Другими словами, это автомобильная погоня в классическом режиме, поскольку она существует не ради чего-то конкретного, а для ритуала автомобильной погони. Когда джип выезжает из этого постиндустриального уныния, открываются ворота для грузового поезда, чей одинокий свисток мы слышим. Как и бармен Люгер, парень, который открыл ворота, курит сигарету. Возможно, он человек Сталкера, верящий в Зону или за плату помогающий ему. Как только ворота открываются и джип прорывается внутрь, он убегает, наверно, предупредить начальство. Мы словно попали в фильм об ограблении, научно-фантастический фильм об ограблении.
В кадре большой старый грузовой поезд, перевозящий электрогенераторы или что-то в этом роде, что-то огромное, финансируемое государством и, вероятно, вредное для окружающей среды. Тяжелый поезд с грохотом подъезжает к усиленно охраняемому КПП. Экран скрипит под тяжестью всего, что на него проецируется, тем более что проецируемое похоже на воспоминание о заре кинематографа, о братьях Люмьер и их поезде, прибывшем на станцию в 1895 году. Яркий свет. Охранники, одетые как мотоциклист, проверяют, нет ли кого, спрятавшегося в поезде или под ним. «Сталкер» предлагает аллегорическое прочтение, и поскольку в фильме есть что-то от пророчества, эти прочтения не ограничиваются событиями времени создания фильма. Пока охранники осматривают поезд, у зрителей с определенными политическими взглядами может возникнуть соблазн увидеть предшественника Eurostar, готового въехать в туннель под Ла-Маншем, мимо лагеря беженцев Сангатт, а в Зоне — идеализированный образ Великобритании и ее щедрой системы социального обеспечения: земля молока и меда со множеством возможностей для тех, кто готов жить в Питерборо и выкапывать овощи за шесть фунтов в час. Согласно такому прочтению, Сталкер сам беженец, но он ищет убежища от всего мира. Ирония, как отмечает Крис Маркер в книге «Один день Андрея Арсеньевича», посвященной Тарковскому, заключается в том, что убежище и свобода находятся за колючей проволокой, в Зоне. Это относится и к самому Тарковскому. Хотя он и жил под контролем государства, ограничивающим его творческую свободу, на Западе существовала более тонкая цензура и тирания — рыночная, и она сделала бы маловероятным создание «Зеркала» или «Сталкера». (Нам нравилось подчеркивать это еще в 1980-х!)
Наступает короткая пауза, пока Сталкер ждет подходящего момента и сделать ставку на свободу за колючей проволокой. Писатель пользуется этим затишьем, чтобы снова пуститься в сентиментальные рассуждения. На самом деле его не волнует вдохновение, он не знает, чего хочет, и действительно ли он хочет того, чего хочет, или не хочет того, чего хочет, и ему все равно, слушают ли его.
Когда поезд преодолевает заграждения, джип проскальзывает следом за ним, держась за фалды железного коня. Охранники, как только звучит сигнал тревоги и включаются прожекторы, сразу открывают огонь. На данный момент это действительно сплошной экшн — возможно, Тарковский был прав, говоря, что нужно начать медленно, чтобы у людей, которые зашли по ошибке, было время уйти. Видны рикошеты, все разлетается на куски, а джип врезается в груду ящиков. Они уже в другой части бесконечного склада. В воздухе карканье ворон. Вместо одинокого свиста деловитый вой сирен. Очевидно, это крупный транспортный узел. Сталкер просит Писателя посмотреть, есть ли там тележка. Через минуту мы видим, что он имеет в виду дрезину, которая повезет их по узким железнодорожным путям, но это слово наводит на мысль, что они находятся в самом ветхом аэропорту в мире или в супермаркете Sainsbury, который давно разорился. Послушно, хотя и довольно неохотно (позже так будет постоянно), Писатель отправляется на поиски тележки, но встречает шквальный огонь охранников. Падает. К этому моменту он уже, возможно, сожалеет обо всех выпитых напитках перед путешествием, что оказалось довольно опасным. Трезвый Профессор отправляется в другую, еще более разрушенную часть здания. В него тоже стреляют, но пули пролетают мимо и падают в воду, заставляя бледные пятна света колебаться — это отражения окон. После того, как камера двинется дальше, отражения займут свои законные места в системе вещей соленой воды. Профессор находит тележку и машет остальным, чтобы они шли к нему по лужам. Теперь понятно, почему Сталкер не обратил внимание на лужу у бара: у них у всех мокрые ноги! Еще один град пуль, но безвредных. Они как в безопасной версии фильма «Там, где гнездятся орлы». Они забираются в тележку, нагибаются, трогаются, тяжело дышат, камера уходит влево.
Далее следует одно из величайших событий в истории кинематографа. Сначала крупный план с головой Писателя, а на расфокусированном заднем плане проплывает какой-то пейзаж. Камера перемещается от Писателя к Профессору (он в шапке с помпоном, текстура его пальто в резком фокусе), потом к Сталкеру и обратно, пока они внимательно изучают окружающее сосредоточенно, недоуменно, с дурным предчувствием и, в случае Писателя, с похмелья. Эти лица путешественников. Такие вы встретите где угодно, от команды Колумба в поисках Америки до туристов в такси, едущих из аэропорта в центр города, который они — Писатель и Профессор — раньше не посещали. Они воспринимают все, даже не понимая, отличается ли то, что они видят, от того, что уже видели, или от того, что только что проехали. Они не уверены в ценности нового пейзажа, как мы, когда с чрезмерным вниманием всматриваемся в неинтересные, часто пустынные, участки между аэропортом и роскошным центром города. Иногда камера фокусирует взгляд на том, через что они проезжают — туман, кирпичное здание, груды брошенных труб, ящики, озеро — но даже когда мы видим точно, мы не уверены в том, что видим. Окраина, периферия, заброшенность. Здания, которые больше не являются тем, для чего они предназначались: места с утраченным смыслом, которые приобрели новый, более глубокий смысл. Мы уже в Зоне? Трудно сказать, поскольку камера в тележке, проходит горизонтально через эту область промежуточности и неопределенности. Мы находимся, как пишет Роберто Калассо о романах Кафки «Процесс» и «Замок», «на пороге скрытого мира, который, подозреваю, скрыт в нашем мире». Порог это тонкая линия, и она повсюду. Сталкер один знает, находимся ли мы в Зоне, он, в конце концов, бывал здесь много раз. Каковы его чувства? Тревога, несчастье – «везде тюрьма» — ничего не изменилось с начала фильма, когда он ссорился с женой. Но что мы теперь видим совершенно отчетливо, так это белое пятно на левой стороне его коротко остриженных волос: является ли это отличительным признаком сталкеров? Настойчивый, усыпляющий стук колес постепенно вливается в лязгающую электронную музыку и уступает ей место, переходя от буквального шума механической работы к мечтательному ритмичному звуковому ландшафту. Она выдержала испытание временем, эта музыка Эдуарда Артемьева, использовавшего гул индейской флейты и персидский тар, пропущенный через синтезатор и перекрывающий искаженный лязг колес. Это до сих пор звучит неправдоподобно прекрасно, не устарело вообще. Сделайте небольшой ремикс, пропустите его через систему с несколькими мощными сабвуферами, и в нем будет нечто большее, чем намек на Basic Channel или что-то другое минималистичное.
В своем стихотворении «Кино» Билли Коллинз пишет, что ему хочется смотреть фильм, в котором «кто-то отправляется в долгое путешествие, / обещающее опасность». Мне тоже нравятся подобные фильмы, будь то путешествие на лодке («Апокалипсис сегодня», «Избавление»), поезде («Экспресс Фон Райена») или автомобиле (выбирайте фильм сами). Идея роуд-муви почти тавтологична в том смысле, что все фильмы являются — или должны быть — путешествиями, просто некоторые из них настолько утомительны, что вы предпочли бы сами ехать на автобусе из Оксфорда в Лондон. «Сталкер» это как буквальное путешествие, так и путешествие в кинематографическое пространство и время.
Коллинза не волнует, с какими опасностями он столкнется в фильме, который посмотрит, поскольку просто будет сидеть и смотреть. Итак, трое мужчин средних лет, неподвижно наблюдают бесконечные серо-черные образы, проносящиеся мимо и проникающие в их разум. Эта длинная дорога на дрезине, которая с лязгом катится вперед, является самым простым путешествием, какое только можно вообразить — горизонтальным, ровным, справа налево, по прямой линии — и полным всех обещанных чудес кинематографа. Это то, что нам продают в трейлерах, которые сейчас заменили то, что раньше называлось «презентацией полнометражного фильма». К сожалению, это одно из самых низовых чудес в истории земли. Это взрывы, исторические эпопеи, в которых исход битвы при Гастингсе меняется на противоположный благодаря тайному мастерству компьютерной графики волшебника Мерлина. Это пятилетние дети внезапно превращающиеся в рычащих дьяволов, это крушение машин от безрассудного вождения, это много шума. И это означает, что я должен тщательно рассчитать время своего прихода (по крайней мере, на двадцать минут позже) после объявленного времени сеанса, если хочу избежать подобного. На улице, в магазинах, на экране и по телевизору появляется все больше и больше вещей, от которых приходится отводить глаза и затыкать уши. В отношении телевидения у меня есть строгое правило, применимое к Джереми Кларксону, Джонатану Россу, Расселу Брэнду, Грэму Нортону и целой куче других, чьих имен я даже не знаю: я не потерплю этих людей в своем доме. Это не значит, как утверждал Сталкер, что везде тюрьма; просто многое из того, что показывают на экранах телевизоров, кинотеатров, компьютеров, для идиотов. Еще одна причина, по которой за долгие годы, прошедшие с первого просмотра «Сталкера», я так же остро нуждаюсь в Зоне и ее чудесах, как любой из трех мужчин на дрезине. Зона это место бескомпромиссной и незапятнанной ценности. Это одна из немногих оставшихся территорий — возможно, единственная — где права на Top Gear не были проданы. Это место убежища. Убежища от клише. Еще одно достоинство Тарковского: абсолютная свобода от клише в среде, где клише не только терпимы, но и ожидаемы как беспрекословное следование условностям. У Тарковского этого нет: нет клише сюжета, персонажей, кадрирования, нет клише использования музыки для подчеркивания эмоционального смысла сцены (или, что чаще бывает, компенсировать отсутствие эмоционального смысла). Нужно уточнить: у Тарковского нет чужих клише. Однако в своих последних фильмах «Ностальгия» и «Жертвоприношение» он опирается на клише самого себя. Бергман сказал, что ближе к концу Тарковский «начал снимать фильмы, которые копировали Тарковского». Вим Вендерс точно так же относится к «Ностальгии», утверждая, что Тарковский «использовал некоторые из своих типичных повествовательных приемов и постановок кадров так, как если бы они были заключены в кавычки». (13) Гуру стал самым преданным учеником самого себя.
Мы не спешим заканчивать эту часть, отчасти потому, что трудно отследить, как долго она длится. То, что автор, похоже, задремал, наводит на мысль о том, что в этом самом линейном из путешествий мы дрейфуем в нелинейное время, оказываемся на территории сновидений, где каждая деталь прочно привязана к реальности и настоящему моменту. Это не похоже на сверкающую психоделическую риторику — «За гранью бесконечного» — заключительной фазы 2001 года; все строго в пределах конечного; просто невозможно сказать, как долго продлится эта конечность. «Мы никогда не знаем, когда умрем» — учит «Солярис» — «и благодаря этому в любой момент мы бессмертны». Я прочел роман Станислава Лема, чтобы узнать, была ли эта строчка в книге или она добавлена Тарковским. Ее там нет, но годы спустя я наткнулся на стихотворение Одена: «Счастлив заяц утром, ибо не может знать мыслей проснувшегося охотника». О чем думают эти трое мужчин, отправившиеся в Зону? Профессор и Писатель думают точно то же, что и мы в детстве, спрашивавшие во время каждого путешествия с родителями: «Мы уже на месте? Это та самая Зона? Это конец?» Возможно, это вопрос, на который может ответить только задающий и только когда перестанет его задавать. Мы находимся в Зоне, когда верим, что находимся там. Размытый пейзаж скользит под лязг. То, что мы видим, внешнее отображение остатков сна Писателя, сна с затуманенными алкоголем воспоминаниями о вещах, которые он видел несколькими минутами или часами ранее: заброшенные здания, ржавый металл, рукотворное, исчезающее на пути к естественному. Есть ли что-нибудь особенно достойное нашего внимания? Есть. Должно быть.
Эта длительность достаточно долгая (длительность, которую запоминаешь как один кадр, хотя на самом деле она состоит из пяти), чтобы погрузить нас в транс. Затем происходит одно из чудес кинематографа, одно из нескольких чудес фильма о чудесном месте. Нет скачка и резкого перехода, внезапно и мягко — лязг и музыка все еще звучат, но фильм становится цветным, и значит, мы в Зоне. (14) Вы можете снова и снова смотреть эпизод с дрезиной, можете не поддаваться его гипнотическому однообразию, но все равно никогда не сможете предсказать, когда он наступит, этот момент тонкого и абсолютного перехода. Камера и дрезина продолжают с лязгом двигаться вперед несколько мгновений, а затем останавливаются.
Мы здесь. В Зоне.
Это во всех отношениях прекрасно, и в то же время совершенно заурядно. Воздух наполнен пением птиц, шумом ветра в кронах деревьев, журчанием воды. Туман, приглушенная зелень. Сорняки и растения колышутся на ветру. Спутанные провода на наклоненном телеграфном столбе. Ржавеющие останки автомобиля. Мы находимся в другом мире, который ничем не отличается от нашего. Подобные пейзажи были и до Тарковского, но — не знаю, как еще это сказать — их бытие не воспринималось таким образом. Тарковский переконфигурировал мир, воплотил в жизнь этот ландшафт, этот способ видения. Формы ландшафта зависят от конкретного художника или писателя. Их цель придать им красоту, заставить других увидеть то, что было здесь всегда (как это делали романтики с горами или Джон К. Ван Дайк с пустынями американского Запада). Но таким образом можно описать не только мир природы. Уокер Эванс открыл нам глаза на покосившиеся лачуги, разбитые автомобили и выцветшие вывески Америки тридцатых годов. В этом смысле Эванс предвосхитил напоминание Брессона самому себе в «Заметках о кинематографисте»: «Сделай видимым то, что без тебя, возможно, никогда не заметят». Чуть позже Брессон добавил к этому медиумический оттенок: «Состояние мира не позволяло вообразить ни одно из существующих искусств». Тогда два взаимосвязанных вопроса: сочли бы мы этот пейзаж с полями, брошенными машинами, покосившимися телеграфными столбами и деревьями красивым без Тарковского? И могло ли это быть вызвано к существованию чем-то иным кроме кино?
Если бы «Сталкер» не был первым фильмом Тарковского, который я посмотрел, возможно, я узнал бы элементы пейзажа из «Зеркала» — поперечные буквы «Т» телеграфных столбов, зелень (каким-то образом ставшую более пышной благодаря приглушению), различие между рукотворным и естественным стирается на наших глазах. Если бы я смотрел «Зеркало», я, возможно, узнал бы эти элементы, как часть Tarkovskyland, и, возможно, произнес следом за Сталкером: «Мы здесь». Наконец-то дома.
И все же, на каком-то необъяснимом уровне, я узнал его, что отчасти объясняет, почему фильм произвел на меня такое глубокое впечатление.
Сейчас в Челтенхэме, где я вырос, есть только одна железнодорожная станция, но в начале 1960-х их было четыре. Один из них, Лекхэмптон, находился всего в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Мой отец часто водил меня туда смотреть, как въезжают и выезжают поезда. Линия и станция закрылись в 1962-м, когда мне было четыре года. Я не помню, как ходил туда (отец рассказывал мне), но остались сильные воспоминания о том, как мы отправились в эту заброшенную, заросшую ежевикой зону поиграть с друзьями, когда нам было лет восемь. Окна заброшенного вокзала были разбиты и внутрь попадал дождь; все выглядело так, словно давным-давно пришло в упадок. (Станция закрылась всего три-четыре года, но для меня это было полжизни). Выцветшее, залитое дождем, расписание поездов все еще висело, как память о собственной кончине. Пустая пачка из-под сигарет Player с изображением бородатого моряка — такие курила моя мать — отправилась в водяную могилу на дне лужи размером с пруд: лягушачья икра, ржавый цвет, облако мошек. Рельсы проржавели, заросли сорняками, жгучей крапивой, одуванчиками. Иногда мы шли по ним за край платформы, но никогда не доходили до следующей станции — тоже заброшенной — в паре миль отсюда, в Чарлтон-Кингз.
«Ну, вот мы и дома», — говорит Сталкер.
Сама Зона была снята на двух заброшенных гидроэлектростанциях, одна из которых была частично взорвана при отступлении Красной Армии, в 1941 году менявшей пространство на время. Это река Ягала в пятнадцати милях от Таллина. Но это не первый выбор натуры Тарковским для Зоны. Первоначально он намеревался снимать в старой шахте в предгорьях Тянь-Шаня недалеко от города Исфара в Таджикистане. Если не считать проходящей там железной дороги, эта ранняя версия Зоны не имела ничего общего с местом из фильма. Она больше похожа на бесплодные земли Долины Смерти, где Антониони снимал финальные сцены «Забриски Пойнт»: лишенные растительности, бледно-желтые и пустынно-сухие. (15) Тарковскому нравилось первоначальное место, но когда землетрясение опустошило регион перед съемками, необходима была альтернатива. Как выразился Рерберг, «первым камнем, вынутым из стены сценария, было местоположение». Существуют кадры с места действия: можно понять, что это был бы другой фильм, в нем не было бы сырости, промозглости, почти обыденности Зоны в ее окончательном воплощении. Инопланетный, неземной (это слово применимо к удивительному количеству мест на Земле), он идеально подходит для научной фантастики, но ему не хватает утонченной магии более умеренного климатического пояса. Это место сделало бы реплику Сталкера «вот мы и дома» довольно странной. (16)
Он произносит это уютно, вытянув руки, как будто человек, пробудившийся ото сна жизни. Но дело не только в нем: весь пейзаж, кажется, пробуждается, протирая затуманенные глаза, будто его пробудил к жизни сам факт, что его видят, ценят, посещают, он кому-то нужен. Мы только что прибыли, а уже чувствуем это место. «Тихо как», говорит Сталкер. Самое тихое место на Земле. Понятно, что он имеет в виду, хотя, строго говоря, здесь не тихо. Слышны птицы, ветер, текущая вода, звуки, подчеркивающие отсутствие шума, индустриального города, дорожного движения. Тревожная тишина и одиночество: «Здесь нет никого, говорит Сталкер. «Но мы же здесь», возражает Писатель. (17)
Сталкер ошеломлен возвращением в Зону, изо всех сил пытаясь вычислить и объяснить, как это соотносится с его воспоминаниями о предыдущих посещениях. Цветы, кажется, не пахнут. Отчасти, из-за всепроникающего запаха болота. «Нет, это от реки», поправляет Сталкер, словно агент по недвижимости, рассеивающий сомнения потенциального покупателя. Но Писатель высказал свою точку зрения: для него Зона выглядит чем-то вроде свалки. Он совсем не чувствует себя дома. Напротив: в этот момент он точно понимает, что имел в виду Хайдеггер, когда говорил, что «неуютное не позволяет нам чувствовать себя дома». У Писателя, очевидно, плохое настроение. Он один из тех людей, которые могли бы проснуться в раю, но продолжали ворчать. Сталкер говорит, что здесь были цветочные кусты, но Дикобраз их вытоптал. (Это первое, что мы слышим о Дикобразе, чье имя имеет смутные ассоциации с «Последним из могикан»). Но запах сохранялся много лет после того, как цветы исчезли. (18)
Почему Дикобраз так поступил? Сталкер говорит, что не знает, но, возможно, Дикобраз возненавидел Зону. Он сидит, остальные осматриваются, не зная, что делать. Писатель хочет знать о Дикобразе. Он был тем, кто научил Сталкера многим вещам, открыл ему глаза. Так, как Тарковский открыл глаза нам. Тогда его звали не Дикобраз, а Учитель, и он возвращался в Зону, приводя с собой людей. Потом в нем что-то сломалось. Возможно, это было своего рода наказание.
Сталкер просит Профессора помочь привязать металлические гайки к каким-то грязным белым бинтам, а сам уходит. Ветер шевелит растения. Профессору и Писателю немного не по себе теперь, когда они одни, но пользуясь отсутствием Сталкера, говорят за его спиной. Писатель представлял его себе иначе. Ожидал чего-то большего, чем Чингачгука или Кожаного чулка из «Последнего из могикан». Зона либо отражает то, о чем вы думали, либо заставляет вас думать о том, что вскоре раскроет. Почему я подумал, что Дикобраз имеет какое-то отношение к Джеймсу Фенимору Куперу? Предположительно, из-за того, что я много раз смотрел фильм, но путаница причин и следствий будет повторяться снова и снова. Так что и Писатель надеялся увидеть больше следопыта, больше Дэниела Дэй-Льюиса, скачущего по дикой местности Мэнли, чем встревоженного, хмурого зека, который, справедливости ради, значительно преобразился, попав в Зону. Мы многое узнаем за короткий промежуток времени. Сталкер сидел в тюрьме. Быть Сталкером это призвание, но он заплатил высокую цену. У него есть дочь, жертва Зоны. А как насчет Дикобраза? Однажды он вернулся из Зоны и сказочно разбогател. «Что в этом плохого?» хочет знать Писатель. (Иногда мне кажется, что любовь писателей к деньгам сильней, чем у менеджеров хедж-фондов или банкиров; только серьезные писатели по-настоящему ценят восхитительное, невероятное совершенство денег.) А неделю спустя Дикобраз повесился. Камера как бы перемещается взад-вперед, никуда не смещаясь, ничего особенного не делая, но ведь ничего особенного и не происходит. Воздух наполнен шумом, таким, какой издавал бы ветер во время сильной бури (но бури нет). Ветер похож на дыхание животного, раненного тем, что оно услышало. (19)
Шум стихает и переходит в плавную, зачарованную электронику Артемьева. «Этот остров полон звуков», — говорит Калибан в «Буре». «И шелеста, и шепота, и пенья; Они приятны, нет от них вреда». Звуки в этом тишайшем из мест приятны, но никто не уверен, не причинят ли они боль. Они/мы вошли в некое измененное царство сознания, в котором силы Зоны больше нельзя отрицать, но и доказать тоже нельзя. Удивительное место, где изумляться нечему, потому что здесь все как обычно.
Камера скользит по траве, обломкам металла, и, когда поднимается вверх, мы видим где-то вдалеке разрушенный дом, который, хоть и труднодоступен и нуждается в ремонте, тем не менее привлекателен для тех, кому остальной мир тюрьма.
Для Сталкера это, похоже, дом мечты. Он смотрит на него из зарослей густых сорняков и падает, почти в молитвенной позе, затем ложится на живот, закрывает глаза. Муравей ползет по его пальцу. Нет разницы между внешним миром и миром в его голове. Все взаимосвязано. Он переворачивается, и впервые выражение тревоги на его лице сменяется проблеском удовлетворенности, даже, возможно, блаженства. Он вернулся в феноменальную зону и она его вновь не разочаровала. Она по-прежнему прекрасна. Пусть запах цветов и исчез, но, в отличие от Гэтсби, который признает свои иллюзии, Сталкер все еще верит и может полностью отдаваться совершенству. Он не складывает руки и не бормочет стихи из какого-нибудь священного текста, но для Сталкера восторг, который он испытывает в этот момент, является формой молитвы, как определил Уильям Джеймс в «Разновидностях религиозного опыта»: «Душа устанавливает личные отношения с таинственной силой, присутствие которой ощущает».
Я нахожу сцену, где мы разделяем блаженство Сталкера и (я много раз возвращался в эту кинематографическую зону и никогда не был разочарован), настолько трогательной, что не могу смотреть ее без слез. Это доказывает глубину переживания. В «Дневнике плохого года» Кутзее обнаруживает, что «безудержно рыдает», когда перечитывает отрывок из «Братьев Карамазовых». «Эти страницы я перечитывал бесчисленное количество раз, но вместо того, чтобы привыкнуть к их силе, чувствую себя все более и более уязвимым. Почему?» Именно так я отношусь к «Сталкеру».
Профессор говорит, что около двадцати лет назад сюда упал метеорит. Или, может быть, это был не метеорит. В любом случае, здесь что-то произошло, из-за чего место стало заброшенным. Вскоре возник парадокс заброшенности: такое место притягивает как магнит. В городах незанятые дома превращаются в притоны наркоторговцев; пустые склады становятся местами проведения нелегальных вечеринок. Станция Лекхэмптон стала неофициальной игровой площадкой для меня и моих друзей. Люди приходили сюда и исчезали, продолжает Профессор. Власти окружили Зону колючей проволокой (опять же, зеркальное отражение ГУЛАГа: место, окруженное колючей проволокой не для того, чтобы держать людей внутри, а для того, чтобы не пускать наружу). В более общем плане Зона отсылает к парадоксальному видению, описанному в 1946 году швейцарским писателем Максом Фришем, когда он обозревал опустошение послевоенной Европы. «Трава, растущая в домах, одуванчики в церквях, можно представить, как все это продолжит расти, как лес будет наползать на наши города, медленно, неумолимо, расцветая без человека, будет тишина чертополоха и мха, земля без истории, только щебет птиц, весна, лето и осень, за дыханием которых больше некому будет следить».
Толчки будущего ощущаются в «Сталкере». Менее чем за десять лет краткое изложение профессором того, как возникла Зона, приобрело ауру сбывшегося предчувствия, и «Сталкер» приобрел еще одно измерение: как предзнаменование катастрофы 1986 года в Чернобыле. Тарковский был не только провидцем, поэтом и мистиком, он также был пророком (будущего, которое теперь осталось в прошлом).
Поврежденный реактор и большая часть радиоактивных материалов в Чернобыле были запечатаны в огромном бетонном «саркофаге». Близлежащие города, такие как Припять, были эвакуированы, и вокруг завода была создана тридцатикилометровая зона отчуждения. Как у ребенка Сталкера — жертвы Зоны — у большого числа родившихся недалеко от Чернобыля, были врожденные дефекты. После эвакуации Зона отчуждения была усеяна ржавеющими останками транспорта, которые использовались во время аварии. Растения разрослись на пустых дорогах и сквозь потрескавшийся бетон. Деревья пробивались сквозь перекошенные перекрытия заброшенных зданий. Листья изменили форму. Фотографии Припяти и Чернобыля, сделанные Робертом Полидори в 2001 году (и собранные в его книге «Зона отчуждения»), выглядят как кадры ретроспективной натурной съемки со съемочной площадки «Сталкера». (20) Полидори и его коллеги документировали мир, который стал напоминать фильм, снятый тридцатью годами ранее. Возможно, эстетика фотографов была частично сформирована «Сталкером», так что фильм помог сгенерировать и сформировать новую реальность, которая пришла ему на смену.
Начали распространяться слухи, что внутри Зоны есть еще одно место (в любом магическом царстве всегда есть самая магическая комната), где исполняются желания. В сжатой форме Профессор обрисовывает рождение мифа и религии: место, где что-то могло произойти, а могло и не произойти; место, обладающее силой, которая усилилась — возможно, даже была создана — благодаря запрету. Этого взгляда придерживается и другой профессор, старый добрый Славой Жижек, который считает, что оцепление является определяющим аспектом Зоны: «Что придает ей ауру таинственности, так это сама граница, т.е. дело в том, что Зона обозначена как недоступная, как запрещенная». В классическом жижековском варианте обратной диалектики: «Зона запрещена не потому, что обладает определенными свойствами, которые слишком сильны для повседневного восприятия реальности, она проявляет эти свойства потому, что считается запрещенной. На первом месте формальный жест исключения части реального из нашей повседневной реальности и объявления ее запретной Зоной».
Независимо от того, как она была создана, вокруг Зоны вырос культ. Ей приписываются особые свойства. Обладает ли она ими? Это не разъясняется. Но вера в то, что такое место существует, вызывает ее к существованию — как в случае с Единорогом из сонета Рильке об Орфее: животным, которого никогда не было, но которое все равно любили. Любовь того, чего не было, создала пространство, в котором оно может быть:
Они кормили его не кукурузой,
а только возможностью, что так могло быть.
И это придало зверю такую силу,
что из его лба вырос рог. (21)
«Это подарок, эта Зона», — продолжает Профессор, старательно привязывая бинты к гайкам. «Ничего себе подарочек!», — удивляется Писатель, прижимая руку к виску, как будто разговаривает по мобильному. «Зачем им это понадобилось?» «Чтобы сделать счастливыми», — говорит вернувшийся Сталкер. Сейчас он в хорошем настроении, улыбается, карабкается мимо гниющих телеграфных столбов (один из них разваливается). Даже повторение жуткого мучительного звериного шума не портит его настроения. Да, он наслаждается жизнью — настолько, что, даже не взглянув на часы жены, объявляет, что пора, и отталкивает дрезину с лязгом туда, откуда они приехали, по изогнутым рельсам, мимо заброшенной автоцистерны, обратно в туман, в черно-белый мир и, в конечном счете, за пределы Зоны, за пределы экрана. С таким же успехом он мог бы заявить об обратном — еще не время. Тем не менее, отправка дрезины обратно вызывает очевидный вопрос: как мы собираемся возвращаться? (Только сейчас я замечаю, что они находятся буквально в конце линии; рельсы здесь завалены мусором. Либо Зона приводит к остановке железной дороги, либо Зона начинается там, где заканчивается железная дорога. В любом случае, Зона это место, через которое нельзя пройти, в которое можно только попасть.) Сталкер игнорирует вопрос, но кажется возможным, что такой начитанный человек, как Писатель, уже встречал ответ раньше, в одном из афоризмов Кафки: «Начиная с определённой точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь». Самое удивительное, что они этой точки уже достигли.
Сталкер велит Профессору пробираться к последнему телеграфному столбу, к брошенной машине. Камера скользит по направлению к автомобилю. Растения слегка покачиваются на ветру. Мы слышим звук шагов по траве, видим, как в нижней части экрана она пригибается, так что предположительно, хотя и нет ощущения ходьбы, это Профессор. В автомобиле мы видим обгоревшие трупы, склонившиеся над ржавыми останками пулемета. Жутко. Ужасно. Предположим, это военнослужащие, отправленные в Зону. Подавить ее по примеру советских танков в Праге и Венгрии? Но что тут подавлять? Не было восстания, людей на улицах, тут и улиц-то никаких нет. Нет ничего. Но само существование Зоны представляло угрозу. Через окно вдалеке видны остовы сгоревших танков, а рядом попадают поочередно в кадр Сталкер, Профессор и Писатель. Так что это был не Профессор, чьими глазами мы смотрели. Или, по крайней мере, если так все начиналось, то потом изменилось без нашего ведома. Такое происходит неоднократно. Мы ассоциируем себя с одним из участников, но обнаруживаем, что он попадает в свое собственное поле зрения, тем самым создавая ощущение, что есть еще один наблюдатель. Традиция, согласно которой движения потенциальной жертвы отслеживаются камерой — камера в роли преследователя — характерна для всех фильмов в жанре саспенс, но здесь переход от взгляда персонажа ко взгляду нераскрытой третьей стороны создает тревожное присутствие лишней пары глаз. Не возникает ощущения, что это точка зрения реального человека, того, кто выслеживает Сталкера: это как дополнительное сознание (самой Зоны?), настороженное и ждущее. Возможно, именно это имел в виду Тарковский, когда сказал, что хочет, чтобы мы «почувствовали, что Зона рядом». Другими словами, этот лишний человек (лишняя пара глаз) — мы. Зона это фильм.
Сталкер бросает одну из гаек с бинтом, чтобы указать маршрут. Три фигуры направляются к покрытым мхом, ржавеющим танкам, бронетранспортерам и артиллерийским орудиям. Все это видно из окна сгоревшего автомобиля с обугленными фигурами, склонившимися над пулеметом. Является ли их сознание тем, что подразумевает молчаливое наблюдение и ожидание камеры? (22) Является ли Зона местом, где мертвые сохраняют свою способность наблюдать и прозревать, сознание поглощается подергивающейся растительностью, которую они воспринимают?
Один за другим они исчезают из виду в провале, сначала Профессор, затем Писатель и, наконец, сам Сталкер. Мы впервые видим, что Сталкер прав: здесь действительно никого нет, ни души, только кладбище давно заброшенной техники, гниющей в траве под открытым небом, только ветерок и колышущаяся растительность. И за всем этим кто-то наблюдает.
Впервые люди кажутся не то чтобы карликовыми, но уменьшенными. Слышна кукушка. Сталкер бросает еще одну гайку. Как метод определения маршрута она вызывает некоторое недоумение. Предполагается, что они находятся во власти гайки, от того, куда он упадет, они подобны игрокам, чьи судьбы решает шарик на колесе рулетки. Но Сталкер бросает гайки в пределах нескольких футов от того места, куда он направляется, так что в маршруте нет ничего случайного. Возможно, это часть мастерства и призвания Сталкера: читать ландшафт, видеть знаки, незримо вписанные в него — как старая женщина, предсказывающая будущее по рисунку чайных листьев в чашке — определять, куда идти, и бросать гайки в качестве временных указателей, которые подходят только для одного путешествия. Сталкер сказал, что Дикобраз был учителем, который открыл ему глаза — открыл их, предположительно, на мифическое значение определенных мест и ориентиров, на события, которые неотделимы от мест, где они произошли. Пока Сталкер в одиночку общался с Зоной, Профессор сказал Писателю, что метеорит, который, возможно, и не был метеоритом, упал около двадцати лет назад, но ощущение Сталкера от того, что произошло, невозможно измерить в этих единицах. История Зоны для него подобна времени сновидений аборигенов: это не набор событий, имевших место в прошлом, а события, скрывающиеся в бесконечных глубинах настоящего.
Кроме этих бросков, ничего особенного не происходит. За исключением того, что камера приближается, так медленно и так незначительно, что это не имеет значения. Она предупреждает нас — пусть подсознательно — всегда что-то либо происходит, либо вот-вот произойдет, либо может произойти. Зона это место состояния повышенной готовности. Малейшее движение имеет значение. Сталкер утверждает, что любое отклонение от маршрута, указанного брошенными гайками, опасно. Сталкер здесь использует слово «маршрут» в смысле, прямо противоположном смыслу Милана Кундеры в «Бессмертии». Для Кундеры маршрут «не имеет значения сам по себе; его значение полностью вытекает из двух точек, которые он соединяет». В то время как дорога это «дань пространству», а маршрут это «триумфальное обесценивание пространства». Кундера использует слово «маршрут» в смысле карты маршрутов (которая на самом деле является картой шоссейных дорог). Маршрут через Зону это не что иное, как дань уважения космосу. Как бы то ни было, Писателю, поначалу испытывавшему страх, начинает надоедать дурацкая идея Сталкера о планировании маршрута. Может, он и русский, но он воплощение чисто английского подхода: к черту все это! Почему нельзя пройти прямо в Комнату? Мы могли быть там через несколько минут. Другими словами, он недоволен маршрутом именно потому, что это не маршрут в понимании Кундеры. Это опасно, говорит Сталкер. На самом деле, главная опасность, похоже, исходит от самого Сталкера. Когда Писатель начинает лениво дергать дерево, разрушая это место, Сталкер (который, давайте не будем забывать, сам повредил телеграфный столб всего несколькими минутами ранее) швыряет в него увесистую металлическую трубу.
После этого небольшого выступления Писателю, вполне естественно, хочется выпить. Сталкер, похоже, тоже хочет. Писатель протягивает ему бутылку, но все надежды, что Сталкер сделает глоток, что это обычный эквивалент круиза с выпивкой, не оправдываются. Жизнерадостность Сталкера после одинокой прогулки, оказалось недолговечной; на его лице снова выражение глубокого смятения и горя. Сталкер выливает содержимое бутылки. Жест, который можно истолковать как своего рода пуджу: подношение богам Зоны.
Не смутившись, Писатель настаивает на том, чтобы идти вперед, на свой страх и риск, с выпивкой или без нее. Комната кажется даже ближе, чем предполагалось ранее: ярдов пятьдесят. Он достаточно уверенно шагает вперед, но когда камера приближается вплотную, прямо к его затылку, кажется, что он испытывает беспокойство. Это потрясающая актерская игра Солоницына: редко чей-то лысеющий затылок выражал такое богатое сочетание бравады — я сказал, что пойду, значит, пойду! — и неприкрытый страх. (23)
Сталкер чувствует, что поднимается ветер, но только когда мы видим Писателя, неуверенно пробирающегося вперед, мы начинаем осознавать этот ветер. Ветви раскачиваются и гнутся. Бриз внезапно превращается в шторм. Мы уже видели этот ветер в начале «Зеркала», мимо того же актера, остановивший его на полпути, когда он уходит от женщины, сидящей на заборе. Пейзаж внезапно становится одушевленным. Автор настаивает на том, что у ландшафта есть физические особенности, поддающиеся эмпирическому измерению и сознательному расчету и что путь может занять не так много времени. В этот момент движение ветра в кронах деревьев показывает, что бессознательное проявляется, становится видимым, заявляет о своих правах. Внезапно нарастает шум, похожий на хлопанье птичьих крыльев. Чей-то голос приказывает: «Только не двигайтесь!» И камера, как снайпер, уходит вглубь здания. Чей это приказ? Писатель несется обратно, как побитая собака, требуя объяснить, кто велел ему остановиться. Сталкер? Профессор? «Это ваш собственный страх», — говорит ему профессор. Вы слишком напуганы, чтобы продолжать, поэтому придумали голос, сказавший вам остановиться. Особенность Зоны в том, что она всегда незаметно перестраивает себя в соответствии с вашими мыслями и ожиданиями. Вы хотите, чтобы это казалось обычным? И в этот момент происходит что-то, заставляющее подумать, что, все как обычно, после чего происходит нечто экстраординарное. А потом все снова становится совершенно обычным. Зона проявляет себя даже тогда, когда она скрывает себя — и наоборот. (24)
Одно можно сказать наверняка: Зона полностью лишила Писателя кундеровского заблуждения о различии между «миром маршрутов» и «миром дорог и тропинок, где красота непрерывна и постоянно меняется»; это она говорит нам на каждом шагу: «Только не двигайтесь!»
Сталкер говорит, что понятия не имеет, что происходит в Зоне, когда здесь никого нет; но как только люди входят в нее, Зона превращается в систему ловушек. (Один из главных вопросов, на который нет ответа: на что похожа Зона, когда здесь нет никого, кто мог бы засвидетельствовать это, оживить, довести до сознания? Существует ли вообще Зона в отсутствие людей? Думаю, ответом Тарковского было бы «да». Персонажи все время попадают в кадр, в уже установленный кадр: экран и Зона находятся там, где их ждут, наблюдают и выжидают). Сталкер делает акцент на том, чего мы хотим от Зоны, на потребностях, которым она отвечает. Но всегда остается скрытый, незаданный вопрос о том, что нужно Зоне от людей, которые приходят в нее, от нас. Какая польза от чуда, если рядом нет никого, кто мог бы стать его свидетелем?
«Все, что происходит, зависит от нас» — говорит Сталкер. Отношения между паломниками — даже скептичными и откровенно циничными, даже теми, кто не считает себя паломниками — и Зоной симметричны. Быть в Зоне, значит быть частью Зоны. Невозможно сказать, инициировано ли данное действие людьми или местом, но ощущение, что Зона является активным участником происходящего, становится все более ощутимым. Сталкер на фоне зелени, такой темной, что она кажется почти черной — то, что Конрад назвал бы непроницаемой тьмой. Из-за этой темноты лицо Сталкера и голубые глаза горят ярче, когда он говорит. С чем? Со своей верой, но также — и именно это отличает его от джихадистов и фанатичных христиан — со своим отчаянием. Зона это не просто источник утешения, сердце бессердечного мира Маркса, это источник мучений, система ловушек, которая постоянно проверяет, дразнит и угрожает не только пришедшим со Сталкером, но и ему самому. И еще одно обстоятельство отделяет его от джихадистов. Одной из сильных сторон Тарковского как художника является то, что он оставляет место для сомнений. В «Человеке-гризли» Вернер Херцог смотрит в глаза медведей, снятых Тимоти Тредуэллом, и решает, что главной характеристикой вселенной — или «джунглей», как он метонимически назвал ее в «Бремени мечты», — является «всепоглощающее безразличие». У Тарковского, несмотря на его православие, несмотря на уверенность в том, что эпические пейзажи Юты и Аризоны могли быть созданы только Богом, есть почти бесконечная способность порождать сомнения, неуверенность и удивление. Вряд ли нужно говорить, что это гораздо более тонкая позиция, чем позиция Херцога. История Дикобраза, как позже сказал Тарковский, возможно, легенда или миф, и зрителям «следует усомниться в существование запретной Зоны». Таким образом, полностью отдаться Зоне, довериться ей, как это делает Сталкер, значит не только рискнуть, но и принять Зону по принципу, из которого построена его жизнь. Вот почему на его лице эмоции: все, во что он верит, грозит превратиться в пепел, а уступ, за который он цепляется, готов рухнуть под тяжестью веса.
Еще об этом ветре, который возникает из ниоткуда: Тарковский — великий поэт тишины в кинематографе. Его видение проникнуто неподвижной красотой русских икон, подобных тем, что были написаны Андреем Рублевым. Но, как он сам объяснил, эта неподвижность противоположна вневременности: «Изображение становится подлинно кинематографичным, когда, помимо всего прочего, не только живет во времени, но и время живет в нем, в каждом отдельном кадре. Ни один «мертвый» объект — стол, стул, стекло, взятые в рамку изолированно от всего остального, не могут находиться вне времени, рассматриваться словно время отсутствует». Неподвижность Тарковского заряжена энергией движущегося изображения, кинематографа, символом которого является ветер. И это отличительная черта творчества Тарковского: чувство красоты как силы. (25)
Профессор подводит итог проповеди Сталкера: значит, Зона пропускает хороших, а плохие погибают? (Очевидно, все гораздо сложнее, но в то же время и проще.) Сталкер не знает. Она позволяет пройти тем, кто потерял всякую надежду, несчастным, говорит он так, словно сам в агонии несчастья, не осознавая, что он в их числе. Обладает ли несчастье способностью превосходить себя? Или это просто путь к дальнейшей обездоленности? Можно видеть, как это давит на Сталкера, когда он выходит из темноты на свет, где Писатель и Профессор выделяются на фоне плывущего тумана и деревьев Зоны.
На самой последней странице постскриптума к книге «Многообразие религиозного опыта» Уильям Джеймс пишет о готовности людей поставить на карту все ради шанса на спасение. Случайность определяет разницу, говорит Джеймс, между «жизнью, лейтмотивом которой является смирение, и жизнью, лейтмотивом которой является надежда». И снова дает о себе знать парадокс отношения Сталкера к Зоне. Лейтмотив его жизни надежда, но Зона пропустит только тех, кто потерял всякую надежду. Сталкерам, как мы узнаем позже, вход в Комнату запрещен. Запрещен, возможно, в силу их веры и надежды на нее.
Речь Сталкера производит впечатление на Профессора, в жизни которого лейтмотив смирение. Он решил покончить с этим сегодня. Если они на удивление быстро достигли точки невозврата, то еще удивительнее обнаружить, что один из них уже готов сдаться. Иногда это одно и то же; разница в том, что у точки невозврата одна локация, в точка отказа повсюду и может быть достигнута на любом этапе пути. «Вы идите, а я вас здесь подожду», — говорит Профессор. Учитывая потрясающую рекламу, создаваемую Зоной — место, где сбудутся все ваши надежды! — Сталкер зарекомендовал себя не очень успешным туроператором. Или, возможно, он имел несчастье столкнуться с двумя чрезвычайно неприятными клиентами. В любом случае, оба в значительной степени утратили веру и интерес к обещанному. (С точки зрения отпуска, погода довольно унылая, вероятно, была бы намного лучше в первоначальном месте назначения, в Таджикистане.) Писателю кажется, что игра продолжается, хотя он не в восторге от перспективы, но Профессор хочет остаться в этом милом местечке для пикника с термосом кофе и подождать их на обратном пути. К сожалению, это невозможно. Никто не вернется тем же путем, каким пришел. (Так что, даже если хотите сдаться, вы должны продолжать идти; Зона это нечто иное, а не подобие жизни.) Единственный вариант для всех — немедленно вернуться. Сталкер предлагает им возмещение за вычетом определенной суммы за причиненные неприятности (ссора с женой, попадание под пули, промоченные ноги). Профессор неохотно поднимается на ноги. «Ладно», — соглашается он, смиряясь с тем, что придется еще немного пожить с надеждой. «Бросайте свои гайки». Сталкер бросает, и они идут дальше. Крик кукушки. Камера остается позади, слегка приподнимается, так что над туманом мы можем видеть Комнату в разрушенном доме, который в этот момент кажется ближе, чем когда-либо.
Этот эпизод, вероятно, самый серьезный из всех, что я когда-либо видел в кино. Это настолько серьезно, что нужно быть настоящим киноманом, чтобы найти его забавным, и даже тогда не рассмеяться. Ты сидишь на диване, задрав ноги, жуешь фисташки, наблюдаешь и хихикаешь. Смех означил бы, что вы поняли шутку во всех ее значениях, но в этом смехе был бы элемент наигранности; это один из тех смешков, в которых присутствует желание объяснить, почему ты смеешься, почему ты такой умный. Если бы я снимал фильм, то определенно придумал сцену, в которой пара человек смотрела бы фрагмент «Отчуждения». Так бы я показал, какой умный, и это дало бы людям в зале шанс по-киношному посмеяться.
«Отчуждение» цитирует «Сталкера». Но как насчет финального кадра в фильме Михаэля Ханеке «Время волков» (2003)? Беженцы необъяснимой, всепоглощающей катастрофы — по крайней мере, она казалась такой тогда, до «Дороги» Кормака Маккарти, после которой большинство катастроф кажутся довольно скромными и локальными событиями; по крайней мере, люди не едят друг друга во «Времени волков» — скрываются на железнодорожной станции, где надеются сесть на один из поездов, которые направляются на юг. (Эта шутка здесь полностью уместна.) Надежда, которую дают поезда, становится все более призрачной, а надежда на спасение становится сильнее. Повествование фильма подходит к концу. Следует длинный кадр, снятый из поезда, с проносящимся мимо пейзажем, размытым скоростью, нетронутым и не представляющим угрозы на расстоянии. Облака на серебристо-сером небе, в котором чувствуется весна. Всеобъемлющий ландшафт. Деревья, дороги, поляны, затем снова деревья и луга. Решительность. Железнодорожный переезд. Странный дорожный знак и дом, но никаких признаков людей. Ландшафт нетронутый, но в нем нет ничего необычного или зловещего. Нет признаков опустошения, хотя возможно, что он недавно был зачищен. Он также зачищен от подсказок относительно того, что это означает. Нет никакого объяснения, что это за поезд и куда направляется. Пейзаж, проносящийся мимо, отказывается допускать какую-либо символическую отсылку к прошлому. Небо абсолютно безоблачно. Затемнение. Конец. В соответствии с подчеркнутым нейтралитетом Ханеке, нельзя сказать, что он намекает на «Сталкера», это означало бы придать кадру именно тот смысл, которого он старательно избегал. Но если невозможно, как заметил поэт Энтони Хект, «начинать две последовательные пятистопные строки словами «После» без того, чтобы бдительный читатель не воскликнул «Элиот! Бесплодные земли», — тогда точно так же невозможно снять что-либо похожее на горизонтальный пейзаж из поезда без того, чтобы столь же бдительный зритель не сказал: «Тарковский! Сталкер». В обоих случаях реакция — снова Хект — является «показателем авторитета, продолжительности и резонанса» Элиота и Тарковского. Поскольку Ханеке, очевидно, очень внимательный зритель, он может ссылаться на «Сталкера», не делая этого — и, по той же причине, не может этого не делать.
Если хочется представить это как серьезный фильм, можно было бы сказать, что это путешествие в зеркальное отражение Зоны Тарковского. В то время как в «Сталкере» Зона то место, где может сбыться сокровенное желание, здесь то место, где проявятся ваши самые ужасные кошмары, ваши глубочайшие страхи, ужасы на вершине пирамиды террора, описанной Дефо. Но я не хочу придавать «Антихристу» большого значения: это чепуха, тщательно продуманное умаление возможностей кинематографа.
2.
Рады были передохнуть? Конечно. Всегда приветствуется передышка: конец раздела или главы, даже двойной пробел; в крайнем случае, просто абзац. Генри Филдинг сравнил эти интерлюдии с остановками в тавернах на протяжении долгого путешествия по роману. Даже если нет запланированных остановок в главах, даже если книга представляет собой один длинный непрерывный абзац (если вы читаете Томаса Бернхарда), вы можете отложить ее в сторону и заняться чем-нибудь другим пару минут, часов или дней.
На концертах и спектаклях антракт часто оказывается своего рода дилеммой. Можно размять ноги, но нет ничего хуже, чем отправиться за напитками в бар только для того, чтобы обнаружить, что к тому времени, когда вы получите свою бутылку «Grolsch» (напиток, который вы никогда бы не заказали при обычных обстоятельствах), раздается звонок, извещающий о том, что вторая часть начнется через три минуты. Сколько раз вы смотрели на своих друзей и свои недопитые напитки и единодушно решали, что да, первое отделение было великолепно, но, честно говоря, с вас хватит (музыки, спектакля) и лучше выпить еще немного лагера?
В случае сдвоенных или строенных киносеансов перерыв является неизбежной необходимостью. У меня больше не хватает выдержки (хотя, что необычно для человека моего возраста, есть время) для пары фильмов Бергмана или трех Брессона, которые я мог проглотить, когда мне было двадцать, поэтому я легко решаю проблему перерывов и того, оставаться ли на второй половине того, за что заплатил хорошие деньги. В «Сталкере» нет антракта, нет даже времени сходить в туалет, первая часть заканчивается довольно резко, несколько секунд паузы и вторая часть. Но этих секунд достаточно, чтобы разрушить чары и заподозрить, что прервалась непрерывность и что пусть даже всего один или два кадра, но пропали. В начале все выглядит немного мрачнее, будто прошло несколько часов и долгий день пошел на убыль. Мы приспособились к темпу фильма — темпу ходьбы, темпу трех тащащихся мужчин — и вдруг кажется, что произошел скачок во времени. Странно и уникально для фильма Тарковского, что мы изо всех сил стараемся не отставать, стараемся успеть. Вот Сталкер со своими бинтами и гайками, идущий по внезапно потемневшему лесу, затем он оказывается снаружи какого-то здания и зовет других подойти.
Они ведут себя спокойно. Но как они добрались туда, где находятся? И снова возникает этот странный сговор между тем, что переживают люди на экране, и нами, зрителями: как будто у них тоже была пауза. Похоже, и у них нежелание продолжать работу во второй части, которое одолевает зрителей во время антрактов. Писатель растянулся на удобном камне, Профессор тоже удобно прислонился. Они выглядят так, словно проснулись, но на самом деле им не терпится лечь. Если Сталкер чего-то и добился, так это того, что объединил их. Иногда я думаю, что в этом и заключается истинная цель гида: служить связью для туристов, обязанных следовать за ним и слушать. Мое воспоминание о последнем разе, когда я был во власти гида, объяснявшего тонкости наскального искусства коренных американцев в Сидар-Меса, штат Юта, это то, как мы с моим спутником сначала хором восклицаем «Вау!», но потом вскрики становятся все более отрывочными и невнятными. С точки зрения потенциальных посетителей, очевидным недостатком Зоны является то, что пойти туда можно только с гидом, что придется слушать от него те же истории и те же приколы, которые он рассказывает с тех пор, как получил работу. Однако у Сталкера это не работа, а призвание, и это не приколы и шуточки (как ворчит Писатель), а сплошные проповеди.
Профессор, выглядящий по-настоящему усталым и окоченевшим, спускается со своего насеста во что-то похожее на огромную лужу. Но нет. Это отражение гигантской серой луны, разбитое на части скалой и медленно собирающееся заново, в то время как Сталкер нараспев читает стихотворение Арсения Тарковского. До сих пор повествование было строго линейным, шаг за шагом: граница, дрезина, путь по Зоне. Тарковский хотел, чтобы все выглядело так, будто фильм снят одним кадром. Но теперь, во второй части, мы, вернулись к свободной ассоциативной структуре «Зеркала», в которой во многом использовалась поэзия отца режиссера. Что происходит? (26)
Стихотворение Сталкера продолжается за кадром, пока необъяснимый бледный серебристо-серый круг колышется и оседает. Это продолжается, когда Сталкер спускается через дыру в стене — разрушенное окно — и протискивается вдоль края стены, цепляясь за нее, как за узкий выступ над тысячефутовым обрывом. В выражении его лица есть что-то от Носферату, в сосредоточенности, с какой он, оскалив зубы, преодолевает то, что могло быть сносной скалодромной стеной. Мы слышим, что слабость – велика, а сила — ничтожна. В фильме «Выход дракона» мы слышали, что гордые цивилизации — Спарта, Рим, Япония — все поклонялись силе, потому что именно сила делала возможными все остальные ценности. Противоположное утверждение позже прозвучало у Thievery Corporation в их треке The Foundation. Излишне говорить, что очевидная слабость Сталкера незначительна в сравнении с верой, которая, по мнению Тарковского, делала его «непобедимым». Сам «Сталкер», по-видимому, черпает силу в памяти о так называемых «прекрасных душах» России конца 1830-х и 1840-х годов, людях, чьи личные и политические слабости казались присущими их интеллектуальной и моральной чистоте. Обязательства, налагаемые на такую душу, читаются как отрывок из учебного пособия по ремеслу Сталкера: «Вы выделяетесь из обычной массы и небесные силы незримо обучают и направляют вас. Ибо без определенного душевного настроя наша наука тщетна, а наши поиски бесплодны».
Сталкер входит в гулкий туннель, где встречает остальных. Они, судя по всему, готовы идти дальше. Профессор недоволен. Он не понял, что они продолжают экспедицию; он подумал, что Сталкер хочет показать им одну из местных достопримечательностей, и не взял с собой свой рюкзак. Он должен вернуться и забрать его. «Вы не можете вернуться», — говорит Сталкер. Пути назад нет. Профессор настойчив. Ему очень нужен рюкзак. (Так получается, что прямо сейчас я полностью разделяю желание Профессора объединиться с рюкзаком. Шесть лет назад моя жена вернулась из Берлина с сумкой Freitag, сделанной из переработанного брезента грузовиков и ремней безопасности. В отличие от других сумок Freitag, эта была довольно простой, однотонно-серой, и поначалу я был немного разочарован. Однако со временем я пришел к выводу, что жена сделала мудрый выбор, и я безмерно полюбил эту сумку. А десять дней назад в Аделаиде, в ходе долгого, многогранного вечера со множеством напитков, я ее потерял — либо в ресторане, либо на вечере, либо в такси, либо на фестивале «Сады искусств». Никто не вернул мне сумку. Она исчезла и ничто ее не заменит. И это единственное, что я хочу вернуть. Если бы я оказался в Комнате, мое самое сокровенное желание состояло бы в том, чтобы воссоединиться с сумкой Freitag. Есть притча — или, может быть, это просто часть шоу-программы, — о том, что в конце своей жизни вы воссоединяетесь со всем, что потеряли в жизни. Эта прекрасная идея оборачивается ужасным разочарованием, поскольку вы сталкиваетесь с тысячами ручек и зонтиков, каждая из которых является метафорой никчемности вещей, которым вы придаете большое значение. Но неплохо, если бы в конце жизни нам открылись места, где мы потеряли свои самые любимые вещи, если бы нам показали фильм, в котором мы в молодости выходим из-за стола на фестивале в Аделаиде, слегка пьяные, и сумка Freitag, стильно серая, стоит там брошенная, незаметная и безмолвная, неспособная выкрикнуть «Vergissmeinnicht». «Так вот что случилось», — сказали бы мы себе, удивленно качая головой пред глубокой тайной потери. И кто знает, может, откровение о том, как мы потеряли эти драгоценные вещи, примирило бы с другой потерей так, как религия больше не умеет).
Сталкер спрашивает Профессора, почему вы так беспокоитесь о рюкзаке? Вы направляетесь в Комнату, где сбудутся все ваши желания. У вас будут миллионы рюкзаков. Это, по сути, идеал жизни, к которой нас призывают, где изобилие рюкзаков — или айпадов, автомобилей, костюмов от Армани — приносит счастье. (Однако в случае с сумкой Freitag я не верю, что она принесет счастье; я понимаю, что она была составляющим моего счастья, и отсутствие ее является источником несчастья.) Тем не менее, можно посочувствовать Сталкеру: его спутники попали в петлю жалоб и разочарований. Все складывается из рук вон плохо. Для них нет ничего хорошего. Особенно для Писателя; с тех пор как он лишился бутылки, он перестал ворчать и еле волочит ноги. Они еще не дошли до Комнаты, но понимают, что одним из глубочайших желаний человечества является потребность жаловаться, стонать и разочаровываться. Возможно, именно для этого и были изобретены боги, чтобы сетовать на них за то, как все обернулось, за то, что происходит, а на поздней стадии человеческого развития (олицетворяемой Томасом Харди), за то, что они не существуют. Профессор спрашивает, как далеко находится Комната? В контексте их непосредственного спора это можно было бы истолковать «как долго именно мне придется ждать, пока я получу все рюкзаки»? В более общем плане, это главный и многослойный вопрос, абсолютно центральный для фильма. Если идти прямо, говорит Сталкер, то метров двести, но, как мы знаем, прямого пути нет. И обычные измерения пространства и расстояния – мили, километры, гектары, акры — не имеют значения. Все, что имеет значение, это кинематографическое пространство. Камера движется вперед линейно, только для того, чтобы мы обнаружили, что вернулись к тому, с чего начали. «Наиболее важной силой в построении пространства Тарковским, — пишет Роберт Берд, — является движение камеры».
То же самое и со временем. Как говорит один из персонажей «Пикника на обочине», «В Зоне действительно нет времени». Сталкер и его спутники, кажется, находятся там всего один день, но как только они начинают дремать и их сны сливаются с реальным путешествием — которое практически неотличимо от менее буквального, духовного путешествия — время растворяется. (27)
Они готовятся войти, сначала Писатель, потом Сталкер. Они возвышаются над тем, что больше похоже не на реку, а на поток расплавленной лавы, загрязненный чем-то, что делает ее более красивой, чем обычная проточная вода. (28) В следующий раз, когда мы увидим Писателя, он будет растрепанный, измазанный грязью и сбитый с толку. Он покидает кадр, оставляя пластиковый пакет позади. Это непростительно. Зона полна хлама: ржавеющих остатков цивилизации и военных действий, но, гния и ржавея, они добавляют красоты этому месту, в то время как этот печально известный, не поддающийся биологическому разложению, пластиковый пакет — бельмо на глазу. Неудивительно, что камера не зацикливается, а вместо этого плывет вслед за Писателем, мимо частично выложенных плиткой стен, светильников и прогнивших арок, сквозь которые можно увидеть и услышать грязный поток падающей воды. Мы предполагаем, что продвигаемся вперед, но в итоге снова сталкиваемся с Писателем, всего в нескольких футах от того места, где видели его в последний раз. Нет никакой связи между тем, насколько переместилась камера и тем, как далеко продвинулись люди. По словам Сталкера, это место причудливо называется Сухим туннелем. Конечно, сама идея оставаться сухими кажется сейчас смехотворной, когда они пробираются по колено в воде, а затем сквозь водопад. Профессор пропал — он вернулся за своим дурацким рюкзаком, а значит, он все равно что мертв. Двое других движутся дальше. Невозможно, но посреди этой сырости земля пульсирует тлеющими углями, как будто мы приближаемся к пылающему центру Земли. Сквозь воду камера смотрит вниз на выложенный плиткой, покрытый мхом пол, усеянный промокшими, исписанными от руки страницами блокнота, ржавым оружием, шприцами.
Только что окончивший университет, я смотрел на эти предметы, предполагая, что их значение — место в символической схеме вещей — будет раскрыто. Но этого не произошло. Они значат только то, чем они являются; они просто вещи — оружие, страницы, шприцы — лежащие там, под водой, а вода, омывающая их, омывает и нас. (29)
А вот и счастливый случай. Профессор не уничтожен Зоной. Как замечает Писатель с неподдельным восторгом, он здесь, ждет их, воссоединился с любимым рюкзаком, жует пирог, пьет теплый кофе из термоса и практически сух. Он даже развел костерок. Но как он добрался сюда раньше их, как он смог обогнать? Что вы имеете в виду? Хочет знать Профессор. Он просто вернулся за рюкзаком. Что правда. И все они оказались там, где были до сплава по грязной воде. Цитированные выше строки Т. С. Элиота о конце всего, о том, что мы заканчиваем там, где начинаем, но заново узнаем это место, подтвердились за невероятно короткий промежуток времени и пространства (насколько пространство и время что-либо значат в Зоне). На самом деле не совсем так, потому что они не знают это место, даже Сталкер, который изумленно оглядывается по сторонам, будто не может поверить в то, что видит — тем более что гайка, которую он бросил, находится здесь, откуда они начали. И не только гайка: вот и пластиковый пакет Писателя, который его ждет. Внезапно фильм оказывается о мужчинах, воссоединяющихся со своими сумками, либо дорогими, либо одноразовыми. (Если бы только моя сумка Freitag тоже была здесь!) Однако у Сталкера на уме более важные вещи, и он пытается обработать этот сбивающий с толку фрагмент данных: тот факт, что они вернулись туда, где были. Зона превратилась в Волшебную гору Томаса Манна, где «»тогда» постоянно повторяется в «сейчас», а «там» в «здесь»». Боже мой, это ловушка, понимает Сталкер. Дикобраз, должно быть, повесил сюда гайку, чтобы сбить с толку, заманить в ловушку. Это чересчур, чтобы в это поверить. Он говорит, что не сделает больше ни шагу, пока не поймет, что происходит. Под пониманием он подразумевает отдых. Согласно стандартам пешего туризма, это место кажется на редкость неподходящим для разбивки лагеря: здесь почти нет сухого места. Писатель находит поросший мхом холмик, окруженный водой, Профессор устраивается на небольшом возвышении, а Сталкер устраивается на краю того, что выглядит как насквозь промокший окоп в Сталинграде. (Неудивительно, что он кашляет.) Восторг Писателя от того, что Профессор нашелся, иссяк и быстро сменяется на насмешки над мотивами Профессора и над содержимым рюкзака. Профессор здесь для того, чтобы измерить Зону, измерить место, определяющим качеством которого является неизмеримость, провести научные исследования чудес, свести все к предсказуемым и поддающимся количественной оценке научным результатам. Писатель — один из тех людей, чье отношение к другим заключается в том, чтобы задеть их за живое. Устроившись поудобнее, Профессор отвечает ответными колкостями: «писателишка вы задрипанный, психолог доморощенный, вам бы стены в сортирах расписывать, трепло бездарное». У них теперь более традиционная прогулка втроем по Зоне, переходящая в истинную мужскую дружбу: подстрекательство и издевательство — британский дискурс, известный как подшучивание, хотя и в несколько необычной форме. Они все погружаются в сон, соскальзывают в сновидение, на краю которого появляется черная собака у мутной реки с остатками тумана. Собака стоит и смотрит на нас, как будто несет важное послание подсознания. Мы ненадолго погружаемся в болотистый монохром, но они еще не спят. Писатель спрашивает Сталкера — или Чингачгука, как он теперь привык его называть, — чего хотели другие люди от Зоны. Счастья, наверно, догадывается он, и все выглядит на удивление уютно, учитывая, где они все лежат. Писатель говорит, что за всю свою жизнь не встречал ни одного счастливого человека. Сталкер мог бы ответить, что трудно узнать другого человека, но вместо этого, нахмурив брови, признает: тоже не встречал. Странные слова, в которые немного трудно поверить — если только эта не очевидная неспособность быть счастливым, являющаяся русским или советским недугом. Джон Апдайк считал, что Америка это огромный заговор, направленный на то, чтобы сделать людей счастливыми. Советская Россия была ее противоположностью. Писатель продолжает: Неужели Сталкер никогда не хотел войти в эту Комнату? Следуя первому принципу наркоторговцев во всех без исключения фильмах — не накуривайся от собственных запасов — Сталкер говорит «нет». Изначально, в «Пикнике на обочине», Сталкер и был «кем-то вроде наркоторговца или браконьера», но у Тарковского — особенно когда само существование фильма оказалось под угрозой из-за катастрофы с испорченными кадрами — он стал «рабом, верующим, язычником Зоны». Так что ему нечего просить у Комнаты, в которую он так страстно верит, чьей силе он служит всю жизнь. Он просто устал, после чего симпатичная черная собачка — такая черная, что это просто силуэт с собачьими ушами — подходит и садится рядом с ним. Писатель все еще хочет поговорить. Что, если он вернется гением? Писательство возникает из-за мучений, неуверенности в себе. Если он вернется, зная, что он гений, какой у него будет стимул писать? Это то, что можно назвать компромиссом с прозаком или, по крайней мере, версией аргумента, часто звучавшего на заре эры Прозака, когда казалось, что лекарство формула всеобщего счастья: несомненно, это привело бы к угасанию творчества. Профессор умоляет его помолчать, он хочет спать, но осознание того, что ты не даешь спать кому-то, является одним из стимулов для продолжения бесед, даже если сам Писатель устал. Они похожи на супружескую пару, которая на самом деле ладит, ссорясь (как Сталкер и его жена). Ни один из них не может с этим смириться. Единственное, что писатель точно знает, так это то, что люди были посланы на землю для создания искусства, образов абсолютной истины, произведений искусства, подобных «Сталкеру». Очевидно, это не универсальная истина, с таким же успехом можно утверждать, что люди были посланы на землю, чтобы разливать пиво, поливать деревни напалмом или строить пристройки к бунгало, но в данном контексте это убедительно и заманчиво. Вспоминаются картины с изображением бизонов в пещерах Ласко. Ван Эйк. Рафаэль. Ван Гог. Поллок… Но мы не можем остановить ход времени. История искусства продолжает идти своим чередом, продолжает даже там — как мрачно представляет это Кундера – «где искусство умирает, потому что умирает потребность в искусстве, чувствительность и любовь к нему». Это может вызывать сожаление, но тот факт, что история искусства включает в себя Трейси Эмин и Джеффа Кунса, подрывает притязания автора, за исключением случаев, когда «произведения искусства» означают предметы роскоши, имеющие денежную ценность. (Все, о чем люди думают, позже посетует Сталкер, — это о том, как получить плату за каждый свой вдох.) Разговор продолжается, уровень сахара в крови снижается, и поскольку люди на экране едва могут держать глаза открытыми, мы, зрители, надеемся, что произойдет что-то, что оживит их, заставит и нас продолжать участвовать. Это единственная часть фильма, которой, кажется, не хватает убедительности и импульса, как будто Тарковский решает, что делать дальше. Это не обязательно плохо, поскольку усиливает впечатление, что фильм в некотором роде о самом себе, он отражает путешествие, которое описывает.
В любом случае, эта небольшая скучная пауза прерывается кадрами просторов Зоны, на вид сухих, но покрытых рябью — возможно, зыбучих песков. (30) Что бы это ни было, эти зыбучие участки колышутся так же, как это происходит на ранних стадиях ЛСД-трипа, когда внешний мир принимает внутренние ритмы тела, его дыхание и пульс. (Это, по-видимому, взято из отвергнутой версии «Сталкера», снятой Рербергом, одного из двух эпизодов, которые попали в финальную версию.) Первые несколько раз, когда я смотрел «Сталкера», были в тот период моей жизни, когда я довольно регулярно принимал ЛСД и волшебные грибы. (31)
Эти кадры колышущейся земли кажутся указанием на то, что Зона это психоделическое место, где — в точности так, как предлагал кислотный гуру Тимоти Лири — то, что вы испытываете, зависит от того, что происходит в вашей голове. Набор и настройка. У нас с моим другом Расселом были оживленные дискуссии по этому поводу, о том, покидали ли Сталкер и его спутники бар, или они просто остались там, загрузившись сибирскими мухоморами. Тарковский, похоже, был не прочь таких трактовок, «если зритель начинал сомневаться, видел ли он вообще путешествие». Земля колышется, будто она не твердая. Ветер поднимает пыльную бурю, которая превращается в бурю сухих цветков, настолько сильную, что похоже на снег. (Может правда в Зоне идет снег?) Маленькие островки травы и деревья на заднем плане не колышутся. Как Тарковский это делает, как добивается таких эффектов? Или это не эффекты? Было ли это просто удачей, что он наткнулся на участок зыбучего песка, а затем пошел снег там, где несколькими секундами ранее была пыль и цветы? Является ли это частью случайной магии кинематографа, которую Херцог обнаружил в последовательности кадров, снятых Тимоти Тредвеллом («Человек-гризли»)? Тредвелл то появляется в кадре, то исчезает, оставляя камере возможность фиксировать только треплемые ветром кусты и листву. «В режиме экшена Тредуэлл, вероятно, не осознавал, что кажущиеся пустыми моменты обладают странной тайной красотой», говорил Херцог, наблюдая, как кусты и деревья гнутся и раскачиваются на ветру, словно создавая бессознательный оммаж Тарковскому. (32) «Иногда образы сами по себе обретают собственную жизнь, собственную таинственность».
Это похоже на сон, но глаза Сталкера не закрыты, как будто все, что мы видим, — галлюцинация. (33) Он так неподвижен, а его глаза так пристально смотрят, будто он мертв. И на самом деле он невероятно похож на мертвеца, сфотографированного Эдвардом Уэстоном в пустыне Колорадо в 1937 году: те же волосы, те же изможденные, страдальческие черты лица, та же щетина — единственное отличие в локациях: иссушающее кости Колорадо и Зона с ревматической сыростью. Голос — женский или детский, возможно, жены или ребенка Сталкера — декламирует стихотворение, которое на самом деле не является стихотворением; это отрывок из Откровения о луне, превращающейся в кровь, и звездах, падающих с неба. Когда я впервые посмотрел «Сталкера», то пытался понять, что это значит, и так же мучился как и из-за «Короля-рыбака», «Золотой ветви» и Флебаса финикийца в «Бесплодных землях»; теперь и фильм, и стихотворение имеют смысл сами по себе, даже если природа этого смысла неуловима, как рыба в воде. Камера переходит в коричневый монохром, мутную сепию сна, похожую на сон о смерти, о вещах, которые остаются, когда не остается ни бодрствующих, ни живых, о будущем, когда кажется, что все на земле — все произведения искусства, разбросанные по великим музеям, — приснилось кому-то, кто так и не проснулся. Под водой несколько рыб (бесшумных, какими могут быть только рыбы), монеты (не имеющие ценности в качестве валюты, но, в их устаревшем понимании, бесценные) и изображение святого Иоанна Крестителя (бородатого, доброго, в плаще) с Гентского алтаря работы братьев ван Эйков. Этот ряд образов, как и зеленый пейзаж, по которому гуляет порывистый ветер, являются квинтэссенцией Тарковского; нечто подобное есть во всех его фильмах: магия отброшенной обыденности, кинематографическая археология повседневности. (34)
Вырванный из сна и вернувшийся к жизни в цвете…Собака зовет нас обратно в мир, который можно показать, о котором можно что-то сказать, в мир, который можно облаять, который мы, возможно, вообще не покидали, а вошли в него глубже. Сталкер открывает глаза, словно возвращаясь с того света, из сна о жизни. Он начинает цитировать из Евангелия от Луки: «И вот в тот же самый день двое из учеников направлялись в …» Мы не слышим названия деревни, но, очевидно, это Эммаус. Теперь, возможно, кто-то захочет проигнорировать православный аспект Тарковского, но это неправильно. «Он подходит, но Его не узнают, Он спрашивает, почему они грустят, и одного из них зовут…» Камера задерживается на лице Профессора как раз в тот момент, когда Сталкер собирается произнести имя Иуда. По крайней мере все так сложилось у меня в голове: смутные воспоминания о религиозном образовании в воскресной школе и отрывки из «Бесплодной земли». Так что это не о предательстве, это о Воскресении, о том, что он не умер, а воскрес. Глаза Писателя открыты, глаза Профессора открыты, и ни у кого нет галлюцинаций. Они действительно сидят и слушают, думая об одном и том же: неужели у Сталкера комплекс Мессии? Сталкер напоминает им, что они говорили о смысле жизни и бескорыстии искусства. (Были ли они? Были ли мы? Как давно?) Возьмем, к примеру, музыку. Это не связано с реальностью, лишено ассоциаций. Пока он говорит, камера переводит взгляд со скал и их изумрудно-зеленого мха на зеркально-серое отражение озера. Видение абсолютного небытия в стиле Сугимото, лишенное ассоциаций (за исключением ассоциаций с Сугимото), заполняет экран, потом камера начинает двигаться вверх, и мы видим размытое отражение деревьев, окаймляющих неподвижное озеро, затем серое небо, чье отражение отражается в озере. Оказывается, этот проблеск небытия, не связанный с реальностью, сам по себе частичка реальности. (35) И напоминание о том, как мало неба в «Сталкере» и вообще в фильмах Тарковского. Он самый приземленный, наименее похожий на Шелли визионер, интересующийся только небом, отражающимся в реке и лужах.
Снова раздается древесный крик кукушки. Профессор и Писатель завороженно слушают, как Сталкер проповедует о том, как что-то в нас резонирует с гармонией, с красотой музыки. Теперь они не скучающие и не сварливые дети, они очарованы, ловят каждое его слово, слушая его так, будто это звуки той самой музыки, пробивающейся через крик кукушки, что возвещает о непрошеном чуде своего существования.
У них нет желания войти туда, куда ведет Сталкер: в грязный, скользкий, болезненно выглядящий туннель. Можно только посочувствовать их нежеланию продолжать. Зона начиналась как милое, нежное, доброкачественное место, но с каждой минутой становится все более страшной и неприступной. Писатель говорит, что не хочет идти первым, да и Профессор не выглядит слишком увлеченным. Они тянут жребий, и Писатель проигрывает. Не смотря на презрение к Сталкеру, он просит его бросить одну из гаек. Он перешел от крайнего скептицизма к боязливой вере. Возможно, это что-то говорит о природе веры. Возможно, нет веры без страха — страха перед последствиями веры. Сталкер действует иначе, он бросает не гайку, а огромный камень словно это граната, и захлопывает скрипучую железную дверь, чтобы защитить их от взрыва. Ни звука. Камень либо испарился в полете, либо приземлился на песок, такой мягкий, что не слышно шлепка. Это едва ли рассеивает страх Писателя, когда он входит в туннель. Сталкер и Профессор отходят в сторону, опасаясь, что любой ущерб, нанесенный Писателю, может в конечном итоге навредить и им. Как и прежде, когда Писатель цинично шел прямо в Комнату, мы сейчас прямо за ним. Он осторожно идет по гулкому, усыпанному стеклом, украшенному сталактитами туннелю. На стенах ничего, кроме сырости. Это похоже на один из извилистых коридоров космической станции, вращающейся вокруг Соляриса, после того, как он был заброшен и оставлен разрушаться, а позже будет сдаваться в субаренду создателям одного из продолжений «Чужого». Нет и речи о том, что выскочит монстр или убийца с топором — то есть, здесь нет порабощения условностями, — но мы убеждены, что случиться может практически все, даже если это «что угодно» — ничто. Это еще один из тех эпизодов, которые, и есть сам фильм. Вим Вендерс считает, что «Сталкер» Тарковского вывел кинематограф на «совершенно новую территорию», где «каждый шаг может стать последним». Все — зрители, режиссер, актеры, даже сама среда — подвергаются «крайней опасности на каждом шагу». Итак, Писатель это наш невезучий представитель, посланный вперед на разведку этой «опасной для жизни» территории. (36) Он продолжает идти. Шаг за шагом. Сейчас мы стоим, оглядываясь назад на то, как он идет, а он смотрит вперед, готовясь к тому, с чем столкнется. Он не оставил свой страх; напротив, он приближается к нему. Туннель протекает, как поврежденная подводная лодка. Вода капает через крышу и, возможно, просачивается сквозь пол. Стекло трескается и хрустит под ногами. Он находится в самой опасной части Зоны, в Мясорубке, но он может быть где угодно:
«Темнота наполнилась звуком падающей воды, которая оказалась таинственным подземным дождем, падающим с руин над головой. Мы двинулись под дождем и, пройдя еще пятьдесят ярдов, выбрались на сухую площадку с тяжелой техникой. Остановились на решетчатой лестнице, ведущей вниз, в паводковую воду. К тому времени мы продвинулись вглубь здания и находились всего в нескольких шагах от главной холодильной установки…Это место было похоже на чертовски опасную ловушку».
Это звучит как отрывок из книги, написанной Писателем после его возвращения: «Зона», бестселлер, правдивая история о его приключениях со Сталкером. На самом деле это рассказ Уильяма Лангевише о Демонтаже Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября. В очередной раз я поражен масштабом фильма, его способностью предвосхищать события, как реальные, так и культурные.
Писатель что-то видит — судя по выражению его лица – что-то ужасное. Тут дверь, кричит он. Сталкер, держась на приличном расстоянии, велит ему открыть ее. Что бы ни находилось за ней — похожей на дверь на подводной лодке – оно может оказаться крайне неприятным. Он достает пистолет. Ужасная ошибка. Достав пистолет, он решает свою судьбу. Сталкер умоляет его избавиться от этого: вспомните о танках! Писатель делает паузу. Возможно, он вспоминает возгласы изумления – «Пули просто отскакивают от него!» — в тех американских научно-фантастических фильмах, где монстр из космоса чаще всего является символом угрозы русских, к числу которых автор этой книги, конечно, должен причислять и себя. Признав бесполезность оружия перед лицом угрозы Писатель бросает пистолет. Открывает дверь. Там есть камера, полная воды — это похоже на сцену из «Приключения Посейдона», но действие происходит на «Курске», потерпевшей крушение подводной лодке, которая стала символом обреченности. Вода выглядит холодной, грязной (как будто в ней мыли самую грязную посуду в мире), загрязненной и, возможно, радиоактивной в придачу. Тем не менее Писатель спускается по лестнице, и вода доходит ему до груди. Он настолько привык к влажности Зоны, что даже не снимает пальто и не держит его над головой. Он совершенно промок. Профессор следует за ним, но Сталкер, обеспокоенный пистолетом Писателя, спрашивает Профессора, есть ли у него что-то подобное. «Нет, просто ампула с ядом на всякий случай», — отвечает тот, погружаясь в воду и держа любимый рюкзак над головой, как пехотинец, несущий свой М16 через разлившуюся во время муссонов реку во Вьетнаме. Сталкер спрашивает, вы пришли сюда умирать? Профессор не отвечает; он слишком занят переходом вброд. Он тоже насквозь промок. С точки зрения того, кто победит в конкурсе «Замочи другого», выбирать не из чего. Они оба прошли зональное крещение. Сталкер следует за ним, подталкивая носком ноги выброшенный пистолет в воду, и тот приобретет статус безвредной реликвии, символа всего, чем является и чем не является. Затем снова кричит Писателю, который не останавливается и идет дальше в огромную комнату, заполненную песком. Это похоже на нью-йоркскую «Земную комнату» Уолтера Де Марии, но сделанную из песка и гораздо большую по размерам. Гайка, брошенная Сталкером, медленно отскакивает от кучи песка. Писатель выглядит ошеломленным, неуверенным в себе. Вспышка света ослепляет его. Мимо пролетает птица и, прежде чем успевает приземлиться, исчезает (это снято до появления CGI). Другая птица следует за ней и не исчезает, а приземляется как обычная птица. Это Зона: совершенно странная и совершенно обыденная. (37)
Это не было любовью с первого взгляда: когда я смотрел «Сталкер», мне было немного скучно и фильм оставил меня равнодушным. Я не был ошеломлен и понятия не имел, что тридцать лет спустя напишу об этом целую книгу, но это был опыт, от которого я не мог избавиться. Что-то осталось внутри меня. В то время я жил в Патни, и однажды мы с тогдашней девушкой отправились гулять в Ричмонд-парк. Была осень, и птица пролетела над землей к группе деревьев, взмахнула крыльями и полетела так странно, что я вспомнил птица в комнате из песка. Сразу после этого мне захотелось пересмотреть фильм, и с тех пор это желание ни разу не покидало меня. (38) Может, после этой книги я больше не захочу его смотреть. Поживем — увидим. Что касается исчезающей птицы, то чувствую, было бы лучше, если бы это была обычная птица. На самом деле, я бы обошелся без большинства откровенно жутких или волшебных элементов Зоны — например, без этого голоса, кричащего Писателю «Только не двигайтесь!» Я настолько убежден в таинственности Зоны, что нет никакой необходимости в том, чтобы она выглядела чем-то иным, а не естественной и привычной — хотя волшебство не могло бы быть достигнуто без таких вещей, как исчезающая птица. О, и кислотная рябь земли — я бы хотел, чтобы она была.
Профессор и Сталкер выглядывают из-за песчаных холмиков, словно находятся в звуковой сцене научно-фантастического ремейка «Песков Иводзимы». (Упоминание о звуковой сцене заставляет меня осознать, что я неохотно замечал: некоторые из эпизодов в Зоне выглядят слишком студийными, они не выглядят так, будто эти места разведали, обнаружили или наткнулись случайно. Они выглядят спроектированными и изготовленными вручную, то есть чересчур продуманными). Писатель в коллапсе. Он лежит в луже воды: он настолько приспособился, что стал практически амфибией. Позади него находится круглый металлический контейнер или барабан. Он встает, подходит к нему, заглядывает внутрь, отходит, поднимает камень — возможно, тот самый камень, который бросил Сталкер, хотя это невозможно (если есть смысл говорить о невозможном в мире, где возможно все) и бросает его в барабан. Может, это тот же самый камень, который при падении не издает ни звука, потому что нет ни всплеска, ни лязга, ничего — а затем, через десять-двенадцать секунд, раздается гулкий всплеск, свидетельствующий о том, что падение было с высоты как минимум Эмпайр Стейт Билдинг. Только сейчас кое-что приобретает смысл: может, камень, брошенный в барабан сейчас, падает на отражение луны в самом начале второй части, где звучат стихи. Учитывая глубину барабана, который на самом деле шахта глубиной в милю, это возможно.
Бросок камня Писателем — своего рода профессорский эксперимент — доказал, что это чье-то идиотское изобретение — но чье? Полагаю, самого Тарковского, если кто-то придерживается авторской теории кино. Не то чтобы Писателя интересовал ответ на этот риторический вопрос. По сути, у него старое доброе хныканье, и, как у большинства писателей, которым дают шанс, хныканье принимает форму нытья о критиках, о том, что его работа не понята должным образом. Какой же он, к черту, писатель, если ненавидит писать? Настоящий писатель, по определению Томаса Манна, тот, кому писать труднее, чем другим людям. Не то чтобы это утешение. Наоборот. Писательство это противоположность утешению, это мучение, как выдавливание геморроидальных узлов, считает он. Похожее сравнение появится позже в фильме Франсуа Озона «Бассейн», где Шарлотта Рэмплинг говорит, что литературные премии подобны геморроям: рано или поздно каждый мудак их получает. В документальном фильме «Рерберг и Тарковский: обратная сторона «Сталкера»» эта речь Писателя воспринимается как монолог Тарковского. Писатель хотел изменить «их», но на самом деле они изменили его. Видение Тарковского уникально, бескомпромиссно. Он считал, что «вся его жизнь состоит из компромиссов». Камера приближается вплотную к Писателю. Это его монолог, его гамлетовский момент, его крупный план. Другими словами, всякий раз, когда кто-то хочет излить душу, камера рядом, незаметно придвигает ближе свои уши и глаза. Писатель действительно в отчаянии. Зона творит свою магию из падающих капель, а он сидит на краю одной из этих капель и вглядывается в глубины собственного существования, обращаясь непосредственно к нам.
Так что же я за писатель, если описываю краткое содержание фильма? Тем более мало что ненавижу больше, чем когда меня убеждают посмотреть фильм, объяснять сюжет и рассказывая конец, уничтожая малейший шанс на просмотр. В свое оправдание скажу, что «Сталкер» это фильм, который можно резюмировать в двух предложениях. Итак, если краткое изложение означает сведение к синопсису, то это противоположность краткому изложению; это усиление и экспансия. Какова цель? Это упражнение само по себе является самоцелью. Выйдет ли из этого что-нибудь, получится ли из этого стоящий комментарий, и может ли комментарий стать самостоятельным произведением искусства, пока неясно. Дело в том, что, приступив к работе, я не в том унынии, в каком был автор. Я не сижу на краю пропасти в насквозь промокшем пальто. Я сижу за столом в красивом теплом кардигане. Я кое-чем занимаюсь, у меня есть прогресс, я двигаюсь к собственной Комнате. Определенный тип писателей неохотно занимаются чем-либо, что отвлекает их от работы. Комментарии для них это отвлекающий маневр, второстепенный или вообще не имеющий никакого значения. Но есть и другие, для кого комментарии занимают абсолютно центральное место в их творческом проекте, которые настаивают на том, что на каком-то уровне комментарии могут оказаться ничуть не менее оригинальными, чем произведение. Кроме того, если человечество было послано на Землю для создания произведений искусства, то другие люди были посланы на Землю чтобы комментировать эти произведения. Не для того, чтобы судить объективно или критически оценивать, а для того, чтобы выразить чувства с максимальной точностью, не пытаясь скрыть причуды натуры, недостатки вкуса и случайности опыта, даже если чувства связаны с замешательством, неуверенностью или удивлением.
Писатель закончил речь и идет к другим через песчаную комнату. Камера медленно опускается к тому месту, где он стоял, где были его ноги, чтобы показать нечто важное: подсказку. Мы ждем и смотрим. Но там ничего нет. Только песок, слегка потревоженный, но безучастный.
Сталкер снова счастлив. В глубине души Писатель, должно быть, действительно хороший человек, если прошел через Мясорубку. Дикобраз потерял там своего брата. Брат был талантливым поэтом, чьи строки Сталкер продолжает декламировать так, словно от этого зависит его жизнь. Вот еще одна причуда или особенность Зоны: не бывает, чтобы все трое мужчин были довольны одновременно. Писатель сейчас по-настоящему взбешен. Он считает, что Сталкер жульничал, когда они тянули жребий, убежден, что Сталкер выбрал Профессора своим любимчиком. Он становится немного напряженным и капризным, но вот снова появляется черный пес, больше не похожий на посланца из подсознания, а просто на милую черную собачку, шлепающую по лужам и всякому хламу, пока Писатель разглагольствует о Сталкере, рассказывая ему, какой он мелкий жуликоватый засранец. Они в комнате с освещенным окном с видом на зеленоватый мир снаружи. Звонит телефон. Писатель продолжает разглагольствовать, затем яростно хватает трубку – «Нет, это не клиника!» — прежде чем продолжить разглагольствовать снова. Наступает тот комический момент, в котором Тарковский абсолютно неузнаваем. Они все смотрят на телефон так, как смотрел император Бразилии Дон Педру II, когда впервые столкнулся с этим изобретением: «Боже мой, он разговаривает!» Как будто весь фильм — загадочно расширенная версия одной из тех короткометражек «Не позволяй телефону испортить твой фильм», спонсируемых Orange Film Board. (39) Этот неожиданный комедийный момент, как отмечает Робин Берд, берет свое начало в документальной истории: солдаты в разрушенном Сталинграде иногда натыкались на остатки цивилизации, «такие, как звонящие телефоны». Исходя из принципа, что если он говорит, то работает, Профессор игнорирует предупреждение Сталкера — не трогайте! — поднимает трубку и набирает номер. У телефона круглый циферблат, так что последовательность набора придает еще большее очарование археологии жестов. С точки зрения эволюции указательный палец долгое время доминировал в эпоху поворотных циферблатов, но сейчас его доминирование исчезло. Указательный палец вступает в фазу покоя, в то время как большой палец переживает ренессанс в эпоху текстовых сообщений и мобильных телефонов. Профессор сразу же дозванивается — и не до автоответчика, а до реального русскоговорящего абонента. Он сделал звонок, возможно, междугородный, еще одно напоминание о прошлом, когда телефонные звонки были непомерно дорогими и человек хватался за любую возможность позвонить за чужой счет. У Профессора закодированный разговор, смысл не понятен, но полон взаимных угроз, контругроз и дурных предчувствий. Он говорит, что в старом здании, в Четвертом бункере. (Это еще одна случайная деталь, подкрепляющая — как всегда бывает в теориях заговора — фильм как пророчество о ядерной катастрофе: именно Четвертый реактор разрушился в Чернобыле). Очевидно, что Профессор намеревается что-то сделать, хотя что — словами песни Buffalo Springfield — не совсем ясно. Голос на другом конце провода — русский, зловещий — говорит, что это месть за то, что он переспал с женой Профессора двадцать лет назад. (Двадцать? Это кажется слишком долгим сроком для мести рогоносца.) Озвучивая наши невысказанные вопросы, Писатель спрашивает Профессора, что он планирует. «Представьте, что будет, когда все кинутся сюда», — говорит Профессор. «Все эти все эти несостоявшиеся императоры и фюреры всех мастей, люди, которые придут не за деньгами, не за вдохновением, а для того, чтобы мир переделать». (40) Это хороший довод. Вот уже много лет я чувствую, что хотел бы быть диктатором, который во всех деталях соответствует моим представлениям о том, как должна быть прожита жизнь и как она должна быть упорядочена. Мир полон таких людей, как я: праздных сталинов и закулисных ленинов, которым мешает захватить власть и управлять ею только хронический недостаток драйва, решительности и амбиций (желание, подкрепленное готовностью достичь желаемого). «Я таких сюда не беру», — говорит Сталкер. Они все в комнате, которая на самом деле может быть Комнатой, и в этом случае Комната была бы большим разочарованием, фактически неотличимой от любой другой комнаты. (Очень важна буквальность Тарковского; как фантастично — я имею в виду, как нефантастично — назвать этот Святейший из Граалей просто Комнатой.) Мы все еще смотрим на героев через дверной проем без двери. Писатель возится с какой-то ниткой или шпагатом, небольшая речь Профессора не произвела на него впечатления. Никто ни о чем не думает, кроме как о своих тривиальных заботах. Диктаторы и безжалостные автократы начинают со сведения счетов, хотят продвинуться по ступенькам служебной лестницы, чтобы поквитаться с тем, кто однажды, давным-давно, обошелся с ними пренебрежительно, или за то, что переспал с их женой, или за какое-то смутно припоминаемое, но несмываемое оскорбление. Обидчиком может быть не человек, а класс или раса, и тогда принимается решение о полном уничтожении, и прежде чем кто-либо поймет, как это произошло, вся Шотландия истечет кровью, и у нас будет ГУЛАГ, который преследует фильм Тарковского, как призрак Банко. Сталкер говорит, что счастье невозможно за счет несчастья других, что кажется наивным особенно Писателю, поскольку знание о том, что кто-то несчастнее тебя — один из источников утешения человечества, если не с незапамятных времен, то уж точно с момента появления журналистики. Писатель нажимает на выключатель, и лампочка над его головой, лампочка, которая, похоже, ни на что не годна, вспыхивает таким ярким светом, что они все вздрагивают. Однако и здесь плохое напряжение и через несколько секунд, точно так же, как в доме Сталкера, она гаснет с хлопком. Зона может фундаментально отличаться от мира там, за своими пределами, но неисправная проводка, по-видимому, является проблемой, от которой нет спасения. Погребенный под другими, более откровенными слоями аллегорической суггестивности, может ли это быть самой сутью фильма? Если их глубочайшим желанием, пусть даже проявленным только в негативном ключе, является достойное энергоснабжение, то, возможно, это представляет собой закодированную критику провала коммунизма, формулы Ленина: советская власть плюс электрификация всей страны.
Пора в путь. Они проходят через дверной проем. Писатель напоследок говорит Сталкеру, что не простит его. Когда он это говорит, мы видим, что именно он все время плел в комнате: терновый венец, не меньше. Он надевает его, и, надо отдать должное, он сидит на нем как влитой. Что-нибудь напоминает? Происходит что-то библейское? Намек на «Укрытие от бури» Боба Дилана? Писатель как Христос? Не знаю. Все есть. И нет. Но может быть. Так что нам придется оставить все как есть. Писатель носит терновый венец собственного изготовления, но пытаться объяснить, что это символизирует, все равно что сделать розгу для собственной спины. Это достижение — иметь кого-то, кто носит терновый венец, и оставить возможность не купиться на теологическое или символическое толкование существующего исключительно в царстве символического. Враждебность Тарковского к символическому прочтению его фильмов распространялась и на вопросы о значении самой Зоны: «Подобные вопросы приводят меня в состояние ярости и отчаяния. Зона ничего не символизирует, как и все остальное в моих фильмах: Зона есть Зона, это жизнь, и, пробираясь по ней, человек может сломаться или дойти». Ах, значит, Зона это больше, чем просто зона, это, как признавал Тарковский, «испытание» (41).
Профессора отвлекает скулеж собаки, которая сидит на корточках перед скелетами двух фигур, гниющих в пыли, предыдущих посетителей — паломников или диверсантов? — которые погибли по неизвестным причинам. Камера приближается к погибшей паре: скелеты заключены в объятия.
Мы в большой, заброшенной, темной сырой комнате с чем-то похожим на остатки химического набора, плавающего в луже, как будто Зона возникла в результате непродуманного эксперимента, который прошел неудачно. Справа, через большое отверстие в стене, виден свет. Долгое время никто не произносит ни слова. Воздух наполнен щебетанием птиц. Это полная противоположность тому месту на озере с засохшей осокой, где не поют птицы. А здесь птицы свистят, щебечут и поют как сумасшедшие. Сталкер говорит Писателю и Профессору — и нам — мы на пороге Комнаты. «Это самый важный момент вашей жизни», — говорит он. Здесь исполнится ваше самое сокровенное желание. И мы верим ему. В этом цель путешествия — заставить поверить в правдивость того, что говорит Сталкер. В идеале человек должен прожить всю жизнь так, как будто находится на этом пороге; каждое мгновение должно быть похоже на неизбежное. Не то чтобы вам нужно что-то явно желать, объясняет Сталкер. Вам просто нужно сосредоточиться на своей жизни. Из-за этого момент, когда вы входите в Комнату, кажется смертью, когда ваша жизнь проносится перед глазами, когда вы оглядываетесь и оцениваете тщетность перед лицом ее абсолютной конечности и неповторимости (или, если вы ницшеанец, ее вечной повторяемости — повторяемой, но неизменной, что то же самое). Сталкер становится задумчивым. Он говорит, когда человек думает о прошлом, он становится добрее. Прекрасная идея, но неверная. В жизни наступает момент, когда вы осознаете, что большинство значимых событий — помимо болезней и смерти — осталось в прошлом. В этом смысле прошлое гораздо привлекательней, чем будущее. Чем старше вы становитесь, тем больше тратите на размышления о прошлом. Но если судить по лицам пожилых, прошлое наполняет их как горечью, так и нежностью. Прошлое становится источником сожаления; вы думаете о несбывшихся надеждах, разочарованиях, предательствах, неудачах, обманах, обо всем, что привело к этому моменту, который мог бы быть совсем другим, намного лучше, но который, как бы вы ни перетасовывали колоду, всегда заканчивается, оставляет вас держа в руках одни и те же карты.
Но самое главное…На данный момент Сталкер находится в состоянии такой тревоги, какой мы еще не видели. Подобрать подходящее слово для выражения его лица — или выражений, поскольку кажется, что на его лице каждую секунду отражается гамма эмоций, оно выражает целый спектр эмоций одновременно, — так же трудно, как ему сказать, что является самым важным в это мгновение. Это смесь усталости, смятения, искренности и безнадежности. Он поворачивается спиной к остальным. Отходит. Самое главное — поверить в это мгновение, в эту Комнату, воплотить в жизнь ее силу. Если вы поверите, что это сработает, это сработает.
Сталкер говорит о том, что нужно поверить, но, я думаю, он имеет в виду религиозную веру. Разница, согласно Алану Уоттсу и его книге «Мудрость неуверенности», заключается в том, что «неверующий откроет свой разум истине при условии, что она соответствует его предвзятым идеям и желаниям. Вера это безоговорочная открытость разума истине, какой бы она ни оказалась. У веры нет предубеждений; это погружение в неизвестное. Неверие цепляется, а вера отпускает». Мигель де Унамуно в «Трагическом смысле жизни» говорит, что вера «это вера в надежду; мы верим в то, на что надеемся», как будто вера и убеждение это одно и то же. Или еще: «Надежда это награда за веру. Только тот, кто верит, по-настоящему надеется; и только тот, кто по-настоящему надеется, верит. Мы верим только в то, на что надеемся, и мы надеемся только на то, во что верим». И вот мы здесь, на пороге Комнаты, и мыслители с азбучным складом ума втянули нас в старую, как мир, дискуссию о вере, надежде и убеждениях, когда мы должны сосредоточиться на том, чего больше всего хотим — а это определенно не семантические перепалки о вере, надежде, убеждении и о том, совместимы ли они друг с другом и совместимы ли они с желанием иметь пожизненный запас бесплатных рюкзаков.
«Теперь идите», — говорит Сталкер. Кто первый? Писатель? В этот момент мы понимаем, что нам не приходило в голову, что Профессор и Писатель действительно пришли в Зону для того, чтобы их самые сокровенные желания могли сбыться. По-своему им просто любопытно. Они хотели посмотреть, на что похожа Зона, хватит ли у нее сил сделать то, на что она претендует. Теперь они убеждены, что так и есть. Это помогает объяснить, почему Писатель вообще не хочет уходить. Размышления о прошлом не делают его добрее. Размышления о прошлом заставляют вспомнить о плохих отзывах, премиях, которые достались другим, признании, которое должно было достаться ему, плохих продажах, отказе участвовать в акциях, потере вдохновения — обо всем том, ради чего он пришел в эту чертову Зону. Не многие могут взглянуть правде в глаза. Если бы они это сделали, то испытали немедленную и глубокую неприязнь к человеку, в чьей шкуре они научились сносно сидеть годами. Не сталкиваться лицом к лицу с правдой, вероятно, занимает одно из первых мест в чьем-либо реальном списке желаний. Юнг утверждал, что «люди готовы на все, каким бы абсурдным это ни было, лишь бы избежать встречи со своей душой». Что может быть абсурднее, чем отправиться в Зону для свидания с собственной душой, а потом, в последний момент, отказаться от этого? Если уклонение не является названием и целью игры, то такого рода изменение позиции в последнюю минуту совершенно логично, это подтверждение того, что целью является избегание, а не разоблачение. Кроме того, говорит Писатель, это как-то срамно. Это немного чересчур, учитывая, как он сам недавно ныл. Но кто бы не ныл, проведя сутки здесь, спя в лужах, укрывшись насквозь промокшим пальто в качестве одеяла? Что плохого в молитве? — хочет знать Сталкер. Ну, для начала, она была создана — по словам Ницше — чтобы глупым людям было чем себя занять, чтобы они перестали ерзать и доставлять неудобства в тихих, священных местах. Я никогда не был близок к молитве — в школе это было просто сложение рук; в церкви, на похоронах и свадьбах это означало склонить голову, смотреть на носки обуви и ждать, когда все закончится бокалами с шампанским. Сельский священник Брессона вынужден напоминать себе, что «желание молиться это уже молитва», но Сталкер не нуждается в этом. Его жизнь это постоянная молитва, он молится, даже когда не молится, когда верит в то, на что надеется, и надеется на то, во что он верит. Тем временем на заднем плане Профессор что-то мастерит, возможно, делает что-то получше тернового венца. Может, это и есть его желание: выиграть конкурс на лучший терновый венец! Я серьезно. Мы думаем, что у нас есть большие цели в жизни, но на деле мы с радостью довольствуемся чем-то тривиальным, что было у нас всегда и делало нашу жизнь сносной. Я помню разговор с родителями о том, что бы они сделали, если бы выиграли в футбольном тотализаторе. Ставки на футбол для многих британцев это эквивалент Комнаты, то, что может воплотить в жизнь их желания. «Все, что я хотела, — сказала мама со смесью гордости и смирения, — это купить в супермаркете самый вкусный стейк». «Ты можешь сделать это прямо сейчас!» — воскликнул я. Чего она действительно хотела, так это отказаться от того, чего хотела, чтобы позволить себе есть стейк каждый день до конца своей жизни. (В отличие от сегодняшнего поколения потребителей, которые не боятся влезть в долги, мои родители вдалбливали мне в голову простую идею экономии: если не можешь себе это позволить, обойдись без этого. На самом деле, эта первая часть — «Если не можешь себе это позволить» — была лишней, поскольку речь шла не столько об экономии, сколько о целой философии «обходиться без чего-либо». Однажды мы с женой пригласили моих родителей на ужин (необычное мероприятие, поскольку они терпеть не могли рестораны), и были удивлены, что мама съела весь стейк. Но вернувшись домой, обнаружили, что она завернула половину в салфетку и спрятала в сумочку. Когда у матери была ранняя стадия рака, иногда она покупала стейк в супермаркете, всегда самый дешевый, и он «никогда не был вкусным». Отец позже сказал, что сожалеет о рационе питания за последние пятьдесят лет. Он жалел, что они «не съели больше жира». Не мяса, а жира. Это было бы отличным пожеланием, которое стоило бы взять с собой в Комнату. Представьте: ваше самое сокровенное желание это есть больше жира. Все это говорится для того, чтобы немного исказить представление о Комнате, поскольку Сталкер не утверждает, что силы Комнаты ретроспективны. Вы можете пойти в Комнату и съесть столько жира, сколько хочется, но вы не можете превратить свою жизнь в ту, где вы всегда ели горы жира.
Возможно, это всегда будет самым сокровенным желанием человека: слегка изменить условия, чтобы применить ретроспективно, построить машину времени, вернуться назад и сделать еще один заход, еще одну попытку, еще раз бросить кости, на этот раз зная результат. Вопрос в следующем: всегда ли глубочайшее желание человека совпадает с его величайшим сожалением?
Если так, то мое самое большое сожаление, без сомнения, разделят подавляющее большинство гетеросексуальных мужчин среднего возраста: у меня никогда не было секса втроем, никогда не было секса с двумя женщинами одновременно. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что у была пара шансов, но в то время мне это не приходило в голову. Это один из тонких уроков жизни: вы никогда не можете знать, когда представится возможность получить то, чего вы хотите, — по той простой причине, что в этот момент это не то, чего вы хотите больше всего. Я отчетливо помню, когда представилась первая из потенциальных возможностей в моей убогой квартирке в Брикстоне в середине 1980-х: я хотел избавиться от Джейн, чтобы мы с Синди занялись сексом, хотя я знал, что Джейн (с которой у меня неоднократно был секс с тех пор как официально расстались) и Синди были не прочь заняться подобными вещами. Ощущение упущенного шанса усугублялось тем фактом, что годы спустя, когда я подружился с Синди, она действительно занималась сексом с Джейн и каким-то мужчиной. Другой случай был в Брайтоне, когда моя девушка из Белграда была в гостях, и мы пошли на вечеринку. Все приняли экстази, и моя подруга Кэти сказала, что у них с моей девушкой из Белграда будет лесбийский роман, что меня устраивало, ведь я тоже мог быть рядом. Проблема заключалась в том, что парень Кэти, Майкл, тоже был рядом (и точно так же хотел, чтобы не было меня).
Вы считаете, что такое желание недостойно момента и мистических возможностей Комнаты? Это решать Комнате. Комната раскрывает все: то, что вы получаете, это не то, чего вы желаете, а то, чего вы желаете больше всего. Боюсь, что моим самым сокровенным желанием было бы не Джейн, сидящая у меня на лице, и не Синди на моем члене, а что-то действительно постыдное, что-то, чего я не хочу предавать огласке. Бьюсь об заклад, всеобщее желание людей западного мира: подняться по имущественной лестнице выше. Даже те, кто поднялся, кто понял, что нет смысла поддерживать Скарджилла и шахтеров, кто покупал квартиры, в то время как остальные носили значки «Уголь, а не пособие по безработице», вероятно, жалеют, что не поднялись по имущественной лестнице раньше, до появления муниципальных квартир, или, хотя бы, когда можно было купить что-то за тысячу фунтов и еще оставалась мелочь на первый выпуск акций British Telecom по низкой цене. Я возвращаюсь в 1980-е, когда носил длинные волосы — те, что сейчас седые и жалкие — и мечтал о муниципальной квартире с тремя спальнями, которая сейчас стоит в триста раз дороже, чем тридцать лет назад.
Давайте предположим, что сила Комнаты вступает в силу немедленно. Если ваше глубочайшее желание проявляется в повседневной жизни и привычках, то мое, по-видимому, состоит в том, чтобы бездельничать, растрачивать жизнь, перемещаясь от письменного стола на кухню (заваривать чай) и из дома в кафе (пить кофе). Все сводится к той фразе в «Солярисе» о том, что мы никогда не знаем, когда умрем. Если бы мне оставалось жить неделю, было бы абсурдно вот так слоняться. Я бы предпочел заняться чем-то захватывающим (хотя что это, я в данный момент не знаю). Если бы мне осталось жить неделю? Слетать на идиллический пляж в Таиланде или на Багамах? Но я провел бы двенадцать часов в самолете и еще три дня, разбитый джетлагом, лежал без сна посреди ночи, слишком уставший, чтобы встать, и ворочался днем, пытаясь не заснуть, чтобы уж наверняка заснуть следующей ночью. Так что, нет. Итак, учитывая, что у меня еще есть какое-то время, самое сокровенное желание на данный момент — сидеть и строчить, пытаясь понять, каково мое самое сокровенное желание.
В любом случае, вся идея этой Комнаты — шутка. Возможно, наше самое сокровенное желание состоит в том, чтобы существовало место, как эта Комната, где сбывается самое сокровенное желание. Экстраполируя, мы не хотим обнаружить, что на самом деле не хотим, чтобы Комната существовала. А даже если бы существовала, мы бы в нее не вошли, пусть и могли бы потом купить самый вкусный стейк в супермаркете. Мы бы вместо этого экономили или тратили их на пиво и чипсы. И даже если бы был шанс на секс втроем, оказалось, что я не могу это сделать, потому что почувствую себя лишним. Мы хотим, чтобы Комната была как футбольные ставки или лотерея. Мы хотим, чтобы она была окном в другой мир, а не зеркалом, отражающим неадекватную и постыдную природу наших желаний. Самое сокровенное желание человека меняется изо дня в день, от мгновения к мгновению. Когда мне было за двадцать, моим самым сильным желанием было просто выпить пива, добраться до закусочной до того, как будут сделаны последние заказы. Те дни прошли, но все еще бывают моменты — когда я нахожусь в кинотеатре, смотрю фильм, который хотел посмотреть целую вечность, — когда все, что я хочу это закрыть глаза и вздремнуть. («Глаз хочет спать», — написал поэт, — «но голова — не матрас».)
Суть в том, что Писатель не хочет в Комнату или не готов войти. Это нежелание или нерешительность — специфическая проблема среднего возраста. В ваши двадцать с небольшим не было бы расхождения между тем, что вы хотите, и вашим самым сокровенным желанием; и то, и другое было бы одним и тем же. Это одна из причин, по которой люди среднего возраста неохотно принимают психоделические препараты. Я думал, что в свои пятьдесят снова начну принимать ЛСД, и я на самом деле с нетерпением ждал эту кислотную рябь, но теперь перспектива не кажется привлекательной, как десять лет назад. Что за материал откроет трип? Наверное, поэтому нет желания отправиться в путешествие. Даже если бы наступил идеальный день, может оказаться, что в голове вот-вот разыграется ужасная буря, и хорошая погода снаружи только усугубила бы депрессию внутри, мое состояние в сырой и липкой мясорубке.
А что насчет Профессора? Да, он готов. Он получил обратно свой рюкзак. Некоторое время назад он был за то, чтобы покончить с этим, но теперь готов сделать решающий шаг. Он показывает то, с чем возился, но это определенно не терновый венец. Это похоже на термос, способный сохранять напитки обжигающе горячими или ледяными на протяжении тысячелетий. Что это? «Душемер?», — язвительно замечает Писатель, но Профессор обрывает: это бомба. Да, двадцатикилотонная бомба. Он светский джихадист, воинствующий прото-докинсист, объявляющий войну верящим в преобразующую силу Комнаты. Профессор настаивает, что он не маньяк, но в данный момент он выглядит и говорит точь-в-точь как пожилой псих. Он и его коллеги по институту решили уничтожить Комнату на случай, если она попадет не в те руки, помешать приходить сюда людям, чьим глубочайшим желанием было контролировать человечество и поработить мир, ленивым гитлерам и диванным сталинам. Но некоторые заговорщики передумали. Они решили, что если это и чудо, то все равно часть природы. (42)
Именно. Все, что мы видим в Зоне, является частью природы. Кажущаяся чудом рябь на земле — какая-то геоморфологическая активность, которую пока не объяснить. Исчезающая птица это игра света. Внезапный порыв ветра из ниоткуда — просто порыв ветра. Как бы то ни было, друзья Профессора решили не взрывать Зону, но это именно то, для чего он здесь. Он пришел с мыслью, что его самое сокровенное желание — взорвать Зону, войти внутрь и захлопнуть за собой дверь; убедиться, что он последний, кто воспользовался магией. Но даже на этой стадии есть сомнения, даже сейчас, когда он принял решение, его сокровенное желание не позволит ему сделать то, что он решил. Это один из уроков Зоны: иногда человек не хочет делать то, что, по его мнению, он хочет. Кроме того, нет гарантии, что физическое разрушение Комнаты ослабит веру в ее могущество. Напротив, уничтожение может породить больше историй о ней и повысить мифический статус места, где она раньше находилась, до тех пор, пока она не возродится.
Сталкер отходит, чтобы обдумать то, что, с его точки зрения, как служителя Зоны и как человека, зарабатывающего этим на жизнь, очень плохие новости. Затем разворачивается и пытается выхватить бомбу у Профессора. Завязывается обычная потасовка, похожая на эпизод Bumfights, но в дело вступает Писатель и отшвыривает Сталкера в мутную воду с плавающим в ней хламом. Странно, но Профессор возражает против его вмешательства, даже когда Сталкер снова бросается в драку. В этот момент невозможно не вспомнить эпизод из «Белого шума» Дона Делилло, когда Вилли Минк читает лекцию о поведении в помещении: «Смысл комнат в том, что они внутри зданий. Никто не должен входить в комнату, если этого кто-то не хочет. Люди ведут себя по-особому в помещениях, не так, как на улицах, в парках и аэропортах. Войти в комнату — значит согласиться на определенный вид поведения».
Уместны ли на пороге комнаты, которая Комната, а, возможно, и вход в Царствие небесное, все эти разговоры о том, чтобы взорвать, все эти драки, потасовки и швыряние друг друга в лужи?
Сталкер был единственным, кто знает это, но из него выбили волю. Он снова берет себя в руки, спрашивает, почему Профессор хочет уничтожить надежду людей. Это место — все, что у них осталось на Земле, единственное место, куда они могут прийти. Зачем разрушать надежду? Ужас того, что сейчас произойдет, оживляет Сталкера настолько, что он снова бросается на Профессора — только для того, чтобы снова быть сбитым с ног Писателем, который становится все более сердитым. (Профессор выглядит так, словно у него вот-вот случится сердечный приступ, потасовка тоже выбила из него дух.) Писатель произносит обличительную речь против Сталкера. Он гнида, наслаждающаяся силой всемогущего Бога. Неудивительно, что он никогда не входил в Комнату — у него есть все, что он хочет, сила и причастность к тайне. Сталкер редко выглядит счастливым; он всегда обременен работой, но сейчас — с окровавленным лицом и синяками, с глазами, красными от слез — он выглядит совершенно удрученным. Сталкерам не разрешается входить в комнату, — буквально плачет он. Они даже в Зону войти не могут с каким-либо корыстным интересом. Но да, вы правы, говорит он Писателю. Я гнида, я ни разу не сделал ничего хорошего в жизни, я даже своей жене ничего не дал. У меня нет друзей. Но не забирайте у меня последнее. «По ту сторону колючей проволоки у меня отняли все», — говорит он. Все, что принадлежит мне, находится здесь, в Зоне. Мое счастье, моя свобода, мое достоинство. Я привожу сюда людей, таких же, как я, отчаявшихся, замученных. Им больше не на что надеяться. И я привожу их. Только я, гнида, могу им помочь.
Все постепенно успокаиваются. Писатель и сам в сомнении. Почему Дикобраз повесился? Потому что пришел сюда с корыстными мотивами. Так почему же не вернулся, чтобы покаяться? Потому что понял, что здесь исполняются только самые сокровенные желания, которое, в случае с Дикобразом, касалось денег. Столкнувшись лицом к лицу с самим собой, он повесился. Истина, открываемая Комнатой, онтологична. «Каждый из нас приходит в мир со своей уникальной возможностью, которая подобна цели или, если хотите, закону», — говорит персонаж пьесы Джона Берджера и Неллы Бельски «Вопрос географии». «Задача нашей жизни в том, чтобы день за днем, год за годом все больше осознавать эту цель, чтобы она, наконец, реализовалась». Если только вы, скажем, не педофил или психопат. Тогда задача вашей жизни — подавить это желание, убедиться, что вы никогда не приблизитесь к воротам начальной школы или к чему-либо, что может оказаться Комнатой.
Другой, менее драматичный сценарий: вы пришли сюда и вошли в Комнату, абсолютно веря в нее, и оказывается у вас нет самого сокровенного желания, все, чего вы желали, на самом деле вы не хотите. Вы выходите из Комнаты, покидаете Зону, и, в отличие от Дикобраза, с вами ничего не происходит. Сделали бы вы вывод, что абсолютно счастливы, мурлыкая как кошка, чья миска с молоком постоянно пополняется? Вряд ли. Если бы вы и были довольны жизнью, то сейчас вас наверняка переполняло бы недовольство. Вы бы пришли к выводу, что Комната не работает. Сталкер бы не претерпел всех изменений, а Тарковский и Стругацкие переделывали, переписывали и переснимали бы фильм. Вы бы позвонили Сталкеру, потребовали вернуть деньги, пригрозили очернить имя, сдать властям или, по крайней мере, отказались рекомендовать его друзьям, которые тоже подумывают о поездке в Зону. Конечно, Сталкер ничего этого не потерпел бы. В том крайне маловероятном случае, если бы он вернулся или даже ответил на ваши звонки, он бы настаивал на том, что все сработало идеально. И таким образом, вы остались бы неудовлетворенным, обманутым, неспособным принять тот факт, что именно это было вашим самым сокровенным желанием, вашей сокровенной природой.
Они вернулись туда, где Профессор показал свою самодельную бомбу, где была драка, они на пороге Комнаты, свет из которой виден справа. Сталкер стоит на коленях. Писатель рассуждает как детектив, который только что раскрыл трудное дело, который нашел улики и распутал противоречия, ускользнувшие от внимания других. И он еще не закончил. Откуда нам знать, что Зона исполняет наши желания? Кто сказал, что Комната исполнила хоть одно желание? (43)
Писатель идет к Комнате и, пораженный собственным ораторским мастерством, спотыкается, идет и чуть не падает в Комнату, его сокровенное желание могло случайно осуществится — больше продаж, чем у Уилбура Смита, больше признания критиков, чем у Зебальда, больше цыпочек, чем у Буковски, — но Сталкер тянет его назад, и они вместе прижимаются к земле. Снова звонит телефон. Писатель обнимает Сталкера за плечи. Профессор встает, начинает разбирать свою бомбу-термос, выбрасывая ее части в воду, задавая вопрос, который у всех на устах — какой смысл приходить сюда?
Цель путешествия сюда в том, чтобы наступил момент, когда этот вопрос можно задать себе, а не кому-то. В написании книги всегда наступает момент, когда раскрывается ее цель: момент, когда становится понятным побуждение — знаменитая «пульсация» Набокова, подтолкнувшая к ее написанию. Этот момент наступает в два этапа. Сначала осознаешь, что да, книга рядом, пусть она и слабо различима, но это не просто бессистемная коллекция заметок и вычеркиваний, сгруппированных вокруг плохо сформированной идеи. Поскольку добраться до этой точки легко, обескураживает факт, что приходится тратить так много времени и энергии впустую, что так много бессмысленных обходных путей, раздражающих препятствий, самооправданий (этот голос постоянно шепчет или кричит «Только не двигайтесь!») Но в тот момент, когда вы понимаете, что книга жива, не надеясь на одобрение критиков или большие продажи, вы понимаете, что все эти отклонения были необходимы и неизбежны и, строго говоря, вовсе и не были отклонениями (даже если все путешествие, в конечном счете, больше не имеет смысла). С этого момента — точки, которая, по словам Кафки, должна быть достигнута, — пути назад нет, и, несмотря на неудачи, идти в целом становится легче. Следующий момент наступает не тогда, когда книга закончена — это лучше воспринимать как последнюю часть предыдущего этапа, — а после ее публикации, когда вы видите ее изданной. Тогда вы видите, что ваши желания и надежды, самые сокровенные желания, оказались не такими уж глубокими, что даже рассматривать жизнь и писательство с точки зрения одного желания абсурдно, что есть множество желаний и множество книг, которые нужно написать. Вы задаетесь вопросом, не лучше ли было подвергнуть анализу другой фильм, скажем, «Там, где гнездятся орлы», или написать другую книгу, например, о теннисе. Там нет Комнаты, или, по крайней мере, этой Комнаты. И вот снова кто-то отправляется в путь, чтобы найти кого-то.
Поскольку мы все еще стоим на пороге Комнаты и вполне могли бы проникнуть в нее, пока эти трое приходят в себя после потасовки, мне следует сказать, чего я хочу от этой книги, что является моим самым сокровенным желанием. Успех. Который, по определению, будет огромным. Если кто-то соблаговолит опубликовать книгу о содержании фильма, который видели относительно немногие, то это будет иметь гораздо больший успех, чем все, о чем Джон Гришем может мечтать. И это желание, как видите, исполнено, а книга заслуживает серьезного критического внимания, и, возможно, даже какой-нибудь небольшой премии.
Профессор разбрасывает части бомбы в разные стороны. Много деталей — она сложнее, чем казалась на первый взгляд. Много воды. Здесь не только плохая проводка, сантехника тоже ни к черту. Телефон больше не звонит. Снова слышится пение птиц и звуки капающей воды, эти два звука слабо различимы, как если бы птицы были земноводными, частично рыбами, звуки, которые можно было бы услышать в первые дни творения, до того, как появились люди, когда вокруг не было никого, кто мог бы услышать, когда не было противоречия между Богом и эволюцией, а сам Дарвин был простой рыбой, пытающейся дышать крыльями или летать с помощью жабр. Они сидят, камера отъезжает назад, в саму Комнату, показывая покрытый водой кафельный пол. (Никто не вошел в Комнату, только камера, ее самое сокровенное желание исполнилось на наших глазах.) Они измотаны путешествием, потасовкой, разочарованием и просветлением, неопределенными различиями между верой, надеждой и безверием, сложной простотой того, что они познали, незнанием урока эволюции. Свет, который был серебристым и промозглым, постепенно становится золотистым и теплым, затем тускнеет, снова становясь промозглым и серебристым. Сталкер повторяет то, что говорил в самом начале: как здесь тихо. Чувствуете это? Он удивляется, почему не переедет сюда с женой и ребенком, Мартышкой, сюда, где никого нет, где никто не причинит им вреда. Может, на каком-то уровне он этого не хочет? Может, Зона не оправдает надежд, не поддержит, как сказал Фицджеральд о Гэтсби, колоссальную жизнеспособность его иллюзий? Раскат грома, вспышка невидимой молнии. Дождь: внутренний дождь, дождь, который знает, как вести себя в Комнате. Между нами и тремя сидящими там мужчинами пролился комнатный дождь, поначалу слабый. Затем он становится тяжелее и громче, больше похожий на ливень, падающий в затопленную Зону между нами и ними. Такой же поток света, как и дождь, даже несмотря на то, что дождь не желает быть ничем иным, кроме как дождем. Все желания испарились, но они вернутся. Это так же верно, как то, что день сменяет ночь. Пока идет дождь, Профессор продолжает бросать детали уже безвредной бомбы в воду, которая превращаются в десятки маленьких блестящих взрывов. Вскоре ливень переходит в мелкий дождь, а затем заканчивается. Профессор бросает последние детали бомбы в сверкающую рябь воды. Мы видим части бомбы, лежащие на плитках под водой вместе с оружием и шприцами.
«Все, пройдя сквозь время, возвращается в вечность», — писал Унамуно. «Сцены жизни проходят перед нами, как кино, но по ту сторону времени фильм един и неделим». Пара любопытных рыбок липнут к бывшей бомбе, проверяя, съедобна она или нет. Черный фильм, чернильный, с нитями крови — от рыбы? — растекается по воде, когда нарастает звук быстро движущегося поезда, исполняющего отрывок из «Болеро» Равеля, музыкального произведения, место которого в истории кино неразрывно связано с Бо Дереком и Дадли Муром в «10». Вибрации от поезда раскачивают воду над безвредными останками бомбы и на удивление безвредной рыбой, заставляя черную маслянистую пленку раскачиваться и содрогаться над бомбой, рыбой, водой и экраном.
Но это не конец. Мы снова в баре, смотрим на улицу через грязную дверь, которую за время путешествия не помыли, каким бы долгим оно ни было. Дверь открыта. По ту сторону мы видим электростанцию, выглядящую такой унылой и серой, потому что мы вернулись в черно-белый мир, который не является Зоной. Шум поезда, отправляющегося в 6:10 на Болеро. За дверью стоит в дубленке жена Сталкера, с ней Мартышка и костыли, прислоненные к лестнице. Жена поднимается по лестнице к этим троим. Люгер, немногословный бармен, тоже там, и он первый ее замечает. Они вернулись, хотя мы понятия не имеем, как. Сталкер говорил им, что пути назад нет, но среди извлеченных и неучтенных уроков один в том, что нет ничего, кроме возвращения назад. (44)
Жену можно понять, если она решит, что они были здесь все время, в долгом запое, или закинулись психоделиком, и предотвращение печеночной недостаточности или психического срыва кажется достижением. Все они выглядят довольно потрепанными: помятыми, измазанными грязью, промокшими. Если бы она знала своего мужа лучше… Возможно, эти трое стали чертовски мудрее, если под мудрее мы подразумеваем печальнее, а под печальнее — сдержаннее. Особенность мудрости в том, что она редко проявляется внешне; никто никогда не знает, как она выглядит в человеческом обличье.
Но что-то изменилось. С ними собака. Собака является единственным доказательством того, что они были в месте под названием Зона. Это как роза, о которой упоминает Кольридж, та, которая вам приснилась в раю, а, проснувшись, вы обнаруживаете ее в своей постели. Сталкер кормит собаку. В остальном ничего не изменилось, но так всегда бывает, когда ты уходишь и возвращаешься обратно. Ничто не меняется, даже если место, куда вы возвращаетесь, изменилось до неузнаваемости. Одинокий свисток все еще звучит, и не становится менее одиноким. Люгер курит, а в баре по-прежнему что-то вроде свалки. Мерцающий свет, само собой, продолжает мерцать. Жена заходит в бар, отчасти местный шериф противостоит трем стрелкам, отчасти суровая мама, чьего сына-подростка и его приятелей застукали за выпивкой. И они пили, теперь мы видим: перед каждым стоит бокал пива. Но никто не мог бы отказать им в паре бокалов после того, через что они прошли, даже если неясно, через что именно они прошли. Она спрашивает о собаке и плюхается на скамейку. Вам никому собака не нужна? У Писателя уже пять собак — похоже, у него дом больше, чем мы себе представляли. «Что ж, любите собак…», — говорит она. — «Это хорошо». (45)
«Ладно», — говорит Сталкер, — «пойдем».
Собака выбегает из бара, за ней следуют Сталкер с женой. (Может Сталкер все-таки переступил порог Комнаты и его самым сокровенным желанием было завести собаку?) Писатель и Профессор — эта пара выглядит такой грязной, что могла бы сниматься в соцреалистической драме о шахтерах — наблюдают, как они уходят: Сталкер, его жена, собака и Мартышка, их ребенок. Писатель курит, по-писательски щурясь сквозь дым, наблюдая, за ними с таким видом, словно чему-то научился, о чем, возможно, однажды напишет: Пустой бар, возможно, еще не открытый, с единственным маленьким круглым столиком…
С этого момента мы попадаем в царство красоты, не имеющее себе равных в кинематографе. Мы должны чуть поправить предположение о том, что люди посланы на Землю для создания произведений искусства: кино было изобретено для того, чтобы Тарковский мог снять «Сталкер», что наш самый большой долг перед братьями Люмьер заключается в том, что благодаря им этот фильм снят.
Переключитесь на дочь, Мартышку, в профиль и крупным планом, закутанную в золотисто-коричневый головной платок, прогуливающуюся с собакой среди голых деревьев. Таким образом, цвет, в конце концов, не является уникальной особенностью Зоны. Падает что-то похожее на снег — снег с дождем или небесные цветы. Звуковая дорожка — снова тот жуткий электронный гул, который мы слышали в самом начале, перед тем, как отправиться в Зону. Мы по-прежнему видим ее покачивающуюся голову, но фокусировка не такая плотная, и мы наблюдаем, как она движется сквозь ландшафт, покрытый снегом или белым пеплом. Озеро тускло-серого цвета. Когда камера отъезжает назад, мы видим, что Мартышка не идет; она сидит на плечах своего отца, и пейзаж обладает безлюдной красотой. Они пробираются через пустошь — Сталкер, его жена, ребенок и собака. В рассказе Кэндзабуро Оэ «Проводник» гость ужина, господин Сигето, отмечает «превосходную игру собаки в этой сцене». Жена господина Сигето не согласна: «Прекрасная игра собак это просто совпадение, за исключением собак из суперфильмов, таких как «Лесси» или «Приключения Рин Тин Тина». И даже их игра не актерская в прямом смысле этого слова, поскольку они играли собак». Здесь она повторяет замечание Белы Балажа о том, что только «растения и животные не слушают режиссера». Если так, то это хорошо согласуется с тем, что Тарковский требовал и от актеров. Донатасу Банионису — Крис в «Солярисе» — не нравилось отсутствие интереса режиссера к психологической мотивации и его строгие требования. Тарковский хотел, чтобы персонажи проходили определенное количество шагов или оставались неподвижными в течение определенного количества секунд. Для Баниониса это была не актерская игра, а «позирование на счет раз-два-три». Собаки не умеют считать, но этот пес делает все, что от него требуется, двигаясь, как фишка по доске для игры в Ludo, виляя хвостом, следуя за Сталкером, его женой и ребенком. (46) Предположим, что если бы собака забрела в Комнату, она захотела бы продолжить жить своей безмятежной собачьей жизнью. Может, и нет. Может, она была одинока в Зоне, забрела в Комнату, и, хотя не знала, что это та самая Комната, ее самое сокровенное желание — найти хозяев и дом — исполнилось. (Невероятно цинично, конечно, предполагать, что ее самым сокровенным желанием было стать собакой-кинозвездой).
«Потерянный рай» заканчивается тем, что Адам и Ева выходят из Эдема «неуверенно и медленно шагая». В этой сцене есть что-то столь же трогательное: милая маленькая семья с новой собакой, впереди ее ждет не изгнание и беспрецедентные приключения, а возвращение к довольству и разочарованиям дома. В своей унылой, постиндустриальной манере это напоминает чистые зимние сцены — усиленные отголосками Брейгеля — в «Зеркале». На заднем плане, за озером, видна электростанция, извергающая клубы дыма или пара. Собака пробегает вперед, виляя хвостом, а затем возвращается, чтобы присоединиться к остальным. Они выглядят как последняя семья на Земле, единственные выжившие в катастрофе, которую все остальные называют жизнью.
Рука наливает молоко из треугольной картонной упаковки (предшественника Tetra Pak) в деревянную миску, не аккуратно, как в «Зеркале». Собака лакает, как кошка. Это один из лучших моментов в истории кинематографа. Никто никогда так не лакал молоко ни до, ни после — еще один превосходный пример игры собаки, которая не сознавала, что играет, или достигла состояния полного погружения в своего персонажа. Сталкер ложится у миски, собака продолжает лакать молоко, как будто завтрашнего дня не будет. Сталкер вернулся домой, и мы вернулись к тому, с чего начинали. «Если бы ты знала, как я устал», — говорит он жене, растянувшись на полу в комнате, забитой книгами. У него книг больше, чем у преподавателя Оксфорда. Это то, о чем мы раньше не знали. Сталкер — не просто какой-то фундаменталист Зоны, он начитан. Бьюсь об заклад, там есть копии «О трагическом чувстве жизни», «Мудрости и неуверенности», и всего остального, упомянутого в этой книге. Кто знает, может быть, у него даже есть какие-нибудь книги Писателя. (47) Сталкер в бессильной ярости из-за отсутствия веры у Писателя и Профессора, и всех похожих на них. Он падает на твердый пол, и жена ласково говорит ему, чтобы не переживал и шел спать. Она говорит, а то здесь сыро. Если бы она только знала! По сравнению с тем, где он побывал, это так же тепло, как свежий утренний тост! Но да, он действительно выглядит усталым. По любым меркам это был долгий и сырой день, а может целая жизнь, в зависимости от того, что длиннее или сырее. Часы с кукушкой отбивают час – похоже, что это сувенир одного из путешествий в Зону; или, возможно, подарок от довольного клиента Сталкера. (48) Жена помогает лечь в постель, снимает брюки и ботинки. Как и прежде, он не снимает свитер — грязный, промокший насквозь и вонючий, вполне подходящий для рекламы последнего прорыва в области стирающих средств. Она укрывает его одеялом, садится на краешек кровати, как будто ухаживает за больным, дает таблетку и воду. Какая-то пушинка плывет по воздуху, тот же самый пух, который был замечен в Зоне в те моменты, когда земля покрывалась рябью, как от кислотного удара, так что дом наполняется волшебством. Сталкер выглядел немного похожим на Носферату в Зоне; теперь, в постели, он похож на Носферату перед восходом солнца. Он находится в том измученном, почти истерическом состоянии, которое заставляет все больше и больше волноваться из-за то, с чем ничего нельзя поделать. По его словам, все, о чем они могут думать, это о том, чтобы не продать себя дешево, о том, как получать деньги за каждый вдох. Никто не верит. Не только эти двое — Писатель и Профессор — никто. Кого же мне туда водить? Он на грани полного нервного срыва, мучимый избытком собственной веры. Хуже всего то, что они не только не верят в Зону, но она им даже не нужна. Потрясающе: самое замечательное место, самая замечательная вещь в мире, и никому не нужна. Фактически люди не нуждаются в том, чего они больше всего хотят, они научились обходиться без этого. Мы видим его лицо и ее утешающую руку. Но он безутешен.
Когда Кутзее обнаружил, что «безудержно рыдает», читая «Братьев Карамазовых», он спросил себя, почему чувствует себя «все более и более уязвимым» перед этими страницами. Это не имело ничего общего с этикой или политикой, а было связано с «оттенками тоски, личной тоски и неспособности вынести ужасы мира».
Вернувшись в Зону, Сталкер говорил, что, возможно, переедет сюда с женой и ребенком; теперь он говорит жене, что больше туда не пойдет. Решает отрезать нос назло лицу. Или, может, невыносимые ужасы мира более терпимы, чем убежище Зоны. Жена говорит, что готова пойти с ним. В конце концов, напоминает она, есть много вещей, о которых она мечтает. Например? Чтобы, во-первых, ее муж перестал быть сталкером. Чтобы он не был так одержим этой проклятой Зоной, чтобы перестал спать в грязном свитере. А может она поняла, что его тайные походы в Зону, это лучше, чем путаться у нее под ногами и хандрить. Нет, она не пойдет туда. Потому что женщина? Потому что и у нее тоже ничего не получится? Он поворачивается, чтобы уснуть.
Раздается гудок поезда. Жена Сталкера подходит к стене, садится, поворачивается к камере и достает сигарету из пачки. Это ужасный момент для меня. Закуривая сигарету, она мгновенно превращается во что-то отвратительное. Теперь мы понимаем, что от этой дубленки и ее волос, должно быть, воняет табаком. И дело не только в этом: я ненавижу все жесты, связанные с поиском, прикуриванием и выкуриванием сигарет.
По ее словам, семья была против их брака. Cоседи смеялись над ним. Она закуривает и трясет спичкой, чтобы погасить. Ненавижу запах потушенной спички так же сильно, как ненавижу запах сигаретного дыма, и я также ненавижу рядом с газовыми плитами скрученные и почерневшие спички. Скрипят и стонут деревянные балки, капает вода из крана — все это придает домашней обстановке морской оттенок. Он Сталкер, вечный заключенный. Она знала это и о том, какие дети рождаются у сталкеров. Но когда он сказал «пойдем со мной», она пошла как апостол, ни разу не пожалев, несмотря на боль, стыд и печаль.
Тарковский считал, что любовь и преданность жены — «последнее чудо», сердце фильма, его окончательный урок: «Только человеческая любовь является доказательством неправоты грубого утверждения, что в мире нет надежды. Это наше общее достояние». Что ж, как сказал Филип Ларкин, обнаружив, что он «слишком эгоистичен, замкнут и ему легко наскучивает любить»: «Полезно этому научиться». В качестве урока это — как и многое в «Скульптуре во времени» не отражает всей сложности происходящего на экране, но соответствует оценке Ольгой Сурковой, ассистента жены Тарковского, Ларисы, как «русского ангела, стоящего на страже преследуемого русского художника» (50). В по крайней мере, так все начиналось. Тогда Лариса пришла к убеждению, что она «источник, из которого он пил».
Но в фильме жена замужем не за известным режиссером, одним из самых почитаемых в мире, а за сталкером, чья пижама — грязный свитер.
Несмотря на всю боль, она не жалеет о выборе. На самом деле, без боли не было бы никакого счастья, никакой надежды. Но счастье превосходит надежду, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Дело не только в том, что когда вы счастливы, надежда не нужна. Когда вы счастливы, надежда и все остальное, — говорит персонаж Солоницына Сарториус в «Солярисе», — становятся бессмысленными. Возможно, особенно в некоторых частях Калифорнии, прожить жизнь, лишенную надежды и до краев наполненную счастьем. В других же местах на Земле на стороне надежды упорство и выдержка, она рядом и ждет, когда все снова станет плохо, когда счастье пройдет. Что касается Зоны, Сталкер, возможно, прав насчет жены; там у нее ничего бы не вышло. Она цепляется за надежду, а Зона пропускает только тех, кто потерял всякую надежду. Жизнь — дерьмо. Ты миришься с этим. Ты надеешься, даже если не веришь в надежду. Люди, пережившие ужасные вещи, говорят, что они никогда не теряли надежды, никогда не переставали надеяться. Но надежда это источник не только вдохновения, но и мучений. Разве Будда не предостерегал от надежды? Разве надежда не одна из мук Сансары, от которой нужно освободиться? Кроме того, Зона это не столько место надежды, сколько место, где надежда замыкается в себе, смиряется. В этом смысле она всегда там, в Зоне.
Мартышка в профиль, в том же осеннем золотисто-коричневом платке на голове, читает. Читает так, как читали люди до того, как книг стало много, до того, как они стали чем-то вроде помехи и бремени, до того, как появился Kindle. Плывет дым, приятный на вид дым ладана. Как плавающий цветок. Громкое щебетание птиц: звуки Зоны, цветение Зоны. Но также гудки на железной дороге и в доках — звуки, которых не было слышно в Зоне, самом тихом месте на Земле. Мы на пороге одного из самых потрясающих моментов в искусстве. Он вбирает в себя весь фильм. Я подразумеваю не только контекст фильма. Он восполняет каждый бессмысленный кусочек запекшейся крови, каждый потраченный впустую спецэффект, всю глупость фильмов, снятых до или после. Все происходило и происходит ради этого. Как мы видели, в «Сталкере» нет ничего символического. Камера просто показывает, что происходит. Она отступает вниз, мимо стакана, наполовину наполненного чем-то похожим на портер или на какую-то советскую кока-колу, которая полностью выдохлась. Пара пустых непрозрачных стаканов. Мартышка откладывает книгу, как будто заучивала то, что читала. Так заставляет нас думать голос за кадром, читающий любовное стихотворение Федора Тютчева. (51)
Снаружи шум. Она наклоняет голову и смотрит на стакан с недопитой колой, и силой мысли начинает двигать стакан по столу. Собака скулит, осознавая, что находится в присутствии чего-то паранормального. Она бросает на собаку недружелюбный взгляд, и та затихает. Возможно, ее оглушило телекинезом, но вероятней собака убедилась, что не происходит ничего плохого, и может дальше дремать на полу своего нового дома. Мартышка снова сосредотачивает внимание на стакане. Подобно сомневающемуся Фоме, засовывающему палец в рану, я хочу знать, как было достигнуто это чудо. Магнитом, спрятанным под стаканом? (53) Затем она двигает банку из-под варенья на пару дюймов. Затем большой высокий пустой стакан. (54)
Она кладет голову на стол, подталкивает стакан прямо к краю стола, прежде чем приподнять его на дополнительный, не учитывающий гравитацию, сантиметр. И он падает со стола. Оэ пишет, что «один из бокалов падает и разбивается вдребезги. До этого мы видели лицо ребенка, а теперь видим на лице удовольствие от разрушения».
Только стакан не разбивается. Мы не видим и не слышим это. Наоборот. Он падает на пол с грохотом. Утверждение о том, что ребенок наслаждается разрушением, что, судя по ее глазам, она «скрывает какую-то злую силу», что она даже «Антихрист», чья цель «уничтожение всего», это дальнейшая проекция, призванная подтвердить первоначальное неверное толкование. Если отбросить эти подробности, прочтение сцены Оэ совершенно не соответствует схеме фильма. Неужели можно поверить, что Сталкер вознагражден за веру дочерью, которая не только калека, но и злобный, бьющий стаканы Антихрист? Ее телекинетические способности, несомненно, компенсация.
Теперь мы можем видеть, что в банке из-под варенья находится яичная скорлупа, но на этом этапе нас не беспокоят символы. Это просто банка с яичной скорлупой и голова Мартышки в осенне-золотом платке, лежащая на столе, как на подушке. Невозможно с уверенностью сказать, что означает выражение ее глаз. Она кажется довольной, почти сонной от осознания своей силы.
Приближается поезд, от которого дребезжат стекла, трясется банка и стол, как в самом начале, когда она спала в постели с родителями, до того, как отец отправился в Зону и вернулся с собакой. Вибрация от поезда настолько сильна, что у нее трясется голова, когда тот с грохотом проезжает мимо. Звучит «Ода к радости» Бетховена. Шум стихает, поезд проехал, и ее внимательные глаза, наблюдающие за тем, как мы наблюдаем за ней, чернеют.
При таком количестве обвинений, взаимообвинений, контробвинений и опровержений трудно разобраться, что происходило, но съемочная площадка «Сталкера» была не похожа на благополучную. Как выразился Рерберг со свойственной ему горячностью: Тарковский, возможно, в конечном счете получил тот фильм, который хотел, «но ценой кучи трупов и тройных пересъемок». Как это часто бывает в разгар ожесточенных споров, здесь есть очаг согласия; после катастрофы с испорченными кадрами Тарковский назвал Рерберга «трупом».
To every natural form, rock, fruit or flower,
Even the loose stones that cover the highway,
I gave a moral life: I saw them feel,
Or linked them to some feeling: the great mass
Lay bedded in a quickening soul, and all
That I beheld respired with inward meaning.
Как мы видели, медленное сжатие и расширение кадра создает впечатление, что Зона дышит, и отрывок в целом прекрасно вписывается в представление о Тарковском как о художнике-романтике, как о поэте кино. Однако, сравнив его с Вордсвортом, употребив выражение «поэт кино», я понимаю, что поэт — единственный человек, которым я хотел бы быть, и хочу, чтобы поэт были поэтом только поэзии. Тарковский одновременно и больше, и меньше, чем романтик. Простые вещи, которые он замечает и наполняет магией дыхания, всегда остаются такими, какие они есть. Есть ли у них понятие о нравственности? Если так, то они независимы от художника; художник просто реагирует на древовидность дерева и ветреность ветра, что и есть «нравственная жизнь» пейзажа. Именно когда происходит взаимодействие человека с ландшафтом, когда ландшафт восстанавливается природой — это источник постоянного очарования для Тарковского, — его «внутренний смысл» ощущается наиболее сильно.
У Вордсворта есть еще один момент, который кажется прототарковским. В одной из черновых версий «Разрушенного дома» поэт встречает своего старого друга Армитеджа, который описывает чувства при виде разрушенных стен, заросшего сада, наполовину скрытого колодца и многочисленных незамеченных предметов: «Я вижу здесь вокруг себя / Вещи, которые вы не можете видеть».
…time has been
When every day the touch of human hand
Disturbed their stillness, and they ministered
To human comfort. When I stopped to drink
A spider’s web hung to the water’s edge,
And on the wet and slimy footstone lay
The useless fragment of a wooden bowl.
It moved my very heart.
Разве не это качество безмятежной тишины придает фильму Тарковского особую ауру археологии заброшенного?
Необходимо уточнение этого пункта. Этап моего вхождения в серьезное кино — поздний подростковый возраст, с середины 1970-х и далее — совпал с интенсивным творческим периодом мейнстрима независимого кинопроизводства, когда американские режиссеры, впитав влияние европейских авторов, добились свободы реализовать свои кинематографические амбиции. Я видел «Таксиста» и «Апокалипсис сегодня» (а также «Челюсти» и «Звездные войны», которые вместе с финансовой катастрофой «Врат Рая» ознаменовали конец этого этапа).
Я посмотрел «Сталкер» чуть позже, но я увидел его сразу как он вышел. Я видел его, так сказать, вживую. А это означает, что я увидел его не так, как двадцатичетырехлетний может увидеть его сейчас. Очевидно, что разница не так остра, как была бы, если вы увидели сегодня рок- группу, которая была на пике своего развития двадцать лет назад. Вещь, продукт, произведение искусства остаются неизменными, но, оставаясь неизменными, они стареют и меняются. Сейчас «Сталкер» существует не только на собственной репутации, не только как памятник себе. Он существует на волне всего, что последовало, на что он оказал влияние (вот почему «Гражданин Кейн» одновременно нестареющий и невероятно старый; практически все появилось после него). Когда я впервые увидел «Сталкера», это была совершенно новая вещь. Я также смотрел «Криминальное чтиво», но не так, как «Сталкера», когда был в точке максимальной отзывчивости, когда моя способность реагировать была еще уязвимой и восприимчивой к изменениям. В определенный момент, даже если вы следите за новыми релизами (книгами, пластинками, фильмами), даже если вы продолжаете расширять кругозор, даже если вам удается быть в курсе последних событий, вы понимаете, что эти последние вещи никогда не станут чем-то большим, что у них нет никаких шансов остаться для вас последним словом, потому что вы на самом деле услышали, увидели и прочитали свое последнее слово много лет назад.
На свете всё преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин
Это именно то, что мы получаем в фильмах Тарковского. Но давайте вернемся назад, к моменту, когда Писатель говорит, довольно по-тарковски, что мы здесь — на Земле, он имеет в виду — для создания произведений искусства. Дополните это утверждение строками отца Тарковского, и мы получим нечто близкое к отрывку из девятой «Дуинской элегии», где Рильке задается вопросом Разве же мы на Земле,
для того, чтоб сказать:
Дом
Мост
Фонтан
Кувшин
Ворота
Фруктовое дерево
Или Окно?
В лучшем случае:
Башня
Колонна…?
Но говоря
эти слова,
ты понимаешь —
и с той интенсивностью,
коей и вещи-то сами не знали,
что выразить могут…
Поэт «говорит» об этих вещах; Тарковский же показывает их, позволяет нам увидеть их более отчетливо, с помощью вооруженного киноглаза. Рильке продолжает, обрисовывая поэтику Зоны:
Здесь дано время
для изреченного,
Здесь его Дом.
Так говори
и свидетельствуй.
Больше, чем раньше,
всё отпадает от нас,
всё, что пригодно для жизни,
что окружает
и заменяет нам всё —
это событие,
и образа нет для него.
Тарковский сохраняет или делает видимым именно то, что, по утверждению Рильке, исчезает. Зона: прибежище смысла, надежда на то, что не исчезнет. (Это наложение Тарковского на Рильке не так произвольно, как может показаться. Погрузившись в русскую литературу и размышления после путешествий по России в 1889 и 1900 годах, Рильке, по словам одного комментатора, «почувствовал, что может быть голосом этой страны. Как он сказал десять лет спустя: «Родина всех моих инстинктов, мой внутренний исток».
В разное время до появления DVD «Сталкер» показывали по телевизору, и я записал его на видео, но, в отличие от Махмута, я никогда не смотрел «Сталкер» по телевизору. Список того, что я не буду смотреть по телевизору, не ограничивается Top Gear и Джереми Кларксоном. Он также включает в себя…»Сталкера». Его нельзя смотреть по телевизору по простой причине. «Зона» в кино; ее по телевизору не показывают. Запрет распространяется не только на «Сталкера», но и на все, что имеет какую-либо кинематографическую ценность. Как выразился Джон Берджер, в этом разница между наблюдением за небом («откуда еще могли взяться кинозвезды, если не с неба?») и подглядыванием из шкафа. Я настолько непоколебим в этом правиле даже когда в кинотеатрах стали показывать все меньше и меньше классических фильмов и мне грозила опасность вычеркнуть большую часть истории кино из своей жизни. Я бы разрешил смотреть дома только ромкомы, фильмы, отличительная черта которых -абсолютное отсутствие кинематографической ценности. Итак, мы купили DVD-проектор, и это замечательно, хотя настройка каждый раз — настройка соотношения сторон, лазание в меню, переключение стереодинамиков, опускание жалюзи для исключения света с улицы, — часто приводила меня в состояние ярости из-за того, что показ пришлось прервать. Еще проблема была в том, что многие классические фильмы прошлого оказались ужасными. «Скромное обаяние буржуазии» и «Дневная красавица» Бунюэля — полный отстой. У Годара сбилось дыхание, и не только из-за курения. По сравнению с «Двойной жизнью Вероники» Кесьлевски прямолинейное порно не кажется безвкусным. Разобраться с «Дневником сельского священника» Брессона тоже непросто. И все же, по крайней мере, я мог смотреть Тарковского. За исключением «Ностальгии», фильма, который вызвал у меня разочарование и скуку, когда только вышел на экраны, но оказался еще хуже при нынешнем просмотре, что я подумал оставить «Жертвоприношение» на полках видеомагазина памяти.
Частота «чудесного» в Тарковском, возможно, намекает на нечто большее об обществе и истории, продуктом которых он был. Одна из целей марксизма-ленинизма или исторического материализма состоит в том, чтобы покончить с категорией чудесного — в истории, как и в логике, не может быть неожиданностей. По мере того как обещания Революции превращались в безжалостную бюрократию сталинизма, происходило обратное. Тщательность, с которой каждый был пойман в ловушку тоталитарной системы, означала, что любой побег и освобождение становились чудом. «Чем выше централизация, — писала Надежда Мандельштам в «Воспоминаниях», — тем эффектнее чудо». Чем невыносимее становилась жизнь, тем невозможней становилось жить без чудес. Обращение с письмами к Сталину в надежде на помилование или смягчение приговора – «что это, как не мольба о чуде?» — означало, что люди жили в рутинном ожидании чудес: «Они стали частью жизни». В тех случаях, когда на эти просьбы был получен ответ — как это случилось с Осипом Мандельштамом в 1934 году, — люди были вне себя от радости. Но, продолжает Надежда Мандельштам в выражениях, удивительно подходящих для «Сталкера», «Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо — лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глиняная лепешка, горсточка пыли… Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах».
«Возвращение» можно интерпретировать как возвращение в Зону, к тому виду кинематографического пространства или видения, который был открыт Тарковским. (Даже стены заброшенного здания, где мальчики играют и дерутся в первых сценах, кажутся из Зоны; на острове зеленый луг, посреди которого стоит заброшенная хижина.) Тарковский оставил последователям визионерский потенциал кино. Но если вы хотите последовать за Тарковским, вы должны убить его, как сыновья отца. Только тогда вы сможете проложить свой собственный путь в новую, неизведанную кинематографическую пустыню. Я приношу извинения за это объяснение — отчасти Гарольд Блум, отчасти плохо усвоенный психоанализ, — но вы уловили суть.
Проблема — хотя это становится очевидным только со следующим фильмом Звягинцева — в том, что он не убил, не избавился от сдерживающего долга перед мастером. Или, возможно, убив его в «Возвращении», Звягинцев снимает «Изгнание» как искупление преступления. Первые кадры напоминают «Ностальгию» (автомобиль, проезжающий мимо ландшафтов, а затем выезжающий из кадра и возвращающийся обратно), «Сталкер» (мрачная промышленная зона, товарный поезд) и «Солярис» (автомобиль, несущийся в городскую пропасть). После этого невозможно не поддаться аллюзиям и отсылкам к Тарковскому: дети листают книги или смотрят на оранжевый огонь (пусть и в камине); Бах; Леонардо (в виде пазла с изображением Благовещения, который собирают дети). Тарковский настолько явен, что в какой-то момент, когда жена и мать Вера делает глоток своего напитка и ставит стакан на стол, все ждут, что начнется телекинез. Она беременна, но ребенок не от мужа (снова Лавроненко, восставший из мертвых или, если хотите, вернувшийся из «Возвращения»); это фильм Тарковского. Дом, где все это происходит, расположен в пустынном, прекрасном ландшафте, который, как и более богатая обстановка «Зеркала», наполнен детскими воспоминаниями. «Почему ручей не течет?» — спрашивает Кир, маленький мальчик, своего отца Лавроненко. «Потому что, — отвечаю я, — дядя Андрей израсходовал всю воду». «Ты видел это [то есть поток образов дяди Андрея]?» — снова спрашивает Кир. «Больше я ничего и не видел», — говорит Лавроненко, вырывая слова у меня изо рта. К концу, разумеется, дожди наполняют ручей, который начинает течь, превращая его в ручей из Зоны, наполненный повседневным мусором. В «Изгнании» есть нечто большее, чем любовь к Тарковскому. Несомненно, я виновен в преступлении, в котором обвиняю Звягинцева: я настолько поглощен «Сталкером», что не вижу ничего, кроме Тарковского, настолько погружен в его взгляд на мир, что ошибочно принимаю его за сам мир. Конечно, Тарковский не единственный режиссер, чью работу цитируют, но он доминирует, и я не могу припомнить другой фильм другого режиссера настолько же доминирующий — почти до самосожжения.
Конец «Изгнания» перекликается с началом, где миндальное дерево и машина. Но есть разница. Камера перемещается в сторону крестьянки, которая, кажется, сошла с картины Брейгеля (что снова несет в себе намек на фильм Тарковского). Внезапно мы оказываемся в другом фильме. Словно наряду с фильмом, который мы смотрим, появилась возможность посмотреть еще один.
Этот искусный переход в другой фильм насторожил меня кое-чем, что я знал, но не осознавал в Тарковском. Как и все величайшие кинематографисты, он настолько полностью погружает вас в свой мир, что вам не приходит в голову — если только это не задумано специально, как у Годара в конце «Презрения» (намеренное ограничение, служащее для более глубокого погружения), — что мир на экране перестает существовать за пределами экрана. Лучшие режиссеры опровергают утверждение Кориолана о том, что существует другой мир. Нет, мир за пределами экрана это продолжение того мира, который мы видим. Мы даже не в кинотеатре, мы в мире. Нет ничего, кроме кино; есть только Зона.
Тарковский, возможно, видел себя Сталкером — преследуемым мучеником, отправляющим нас в путешествие в Зону, где открываются высшие истины, — но он также отождествлял себя с самим пунктом назначения. В интервью смертельно больного художника-постановщика Рашита Сафиуллина есть трогательный момент, когда, отвечая на вопрос о Зоне, он вспоминает время, проведенное с Тарковским: «Здесь ты становишься самим собой… это место, где можешь поговорить с кем-то непостижимым». Интервьюер просит пояснить. «Вы имеет в виду…?». «Да, с Богом. Когда Андрея не стало, я лишился человека, с которым мог говорить о самых важных вещах. Комната исчезла». «Значит, он был для вас Комнатой?» «Да».
Возможно, это был легко узнаваемый жанр, независимо от того, что утверждал писатель?
Не больше и не меньше, чем чтение?
Дэвид Марксон «Это не роман»
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: АНДРЕЙ СЕН-СЕНЬКОВ
Прежде всего я должен сообщить вам, что окна мои выходят на бульвар, но не на тот элегантный бульвар, который является пристанищем франтов и всего модного племени, где каждый божий день они устраивают вторую биржу; или решают, какие новости следует распространять назавтра ради роста или падения акций, одновременно делая вид, что млеют от восхищения новым экипажем, выезжающим с улицы Лафит.
Не подумайте также, что я имею отношение к одному из бульваров квартала Марэ, напротив улиц де ла Рокетт или Сен-Себастьян, и не вижу перед собой ничего, кроме старых деревьев, хоть и чрезвычайно хороших, но и чрезвычайно мрачных, и перекрестков, зачастую пустынных, хотя на них время от времени и появляются некоторые из респектабельных обитателей улиц Па-дю-ла-Муль или Труа-Пистолет. Район этот наверняка станет весьма веселым и оживленным, когда новый театр Сен-Антуан заработает в полную силу; но покамест, я уверен, вы предпочли бы, чтобы я там не задерживался.
Выберите середину между этими двумя позициями, и вы окажетесь в аккурат на бульваре Сен-Мартен, где не будет ни щегольства Шоссэ-д’Антен, ни унылости Маре, зато вы увидите всего понемногу: маленький Париж, развеселый и бойкий, крайне разнообразный, довольно шумный по воскресеньям, но вполне сносный в течение недели. Пред моими глазами проносится нечто вроде картинок волшебного фонаря, и я собираюсь описать вам некоторые из них, полностью исключив «месье Солнце» и «мадам Луна», потому что я никогда не смотрю ни на то, ни на другое, опасаясь навредить глазам.
Расположимся перед фонарем или, вернее, у моего окна, в семь часов поутру. Перед нами предстанет первая картинка.
В это время на бульваре почти тихо: магазины еще не открыты, ведь какого рода магазины обычно располагаются на бульваре? Магазины модных новинок и те, где продаются гравюры, книги, игрушки и конфеты, а также лавки производителей бильярдных столов и других предметов, которые люди редко покупают в семь часов утра. Вот почему все эти коммерсанты не торопятся открывать свои заведения, зная, что их клиенты не станут являться в такую рань.
Вы заметите, что на этой аллее очень редко встречаются бакалейщики и торговцы вином; этим классом торговцев захвачены углы улиц, что весьма выгодно для бульваров.
Зато на этой аллее есть множество кафе. Одно из них располагается прямо подо мной, другое – напротив, одно – справа, два – слева и еще два чуть подальше.
Не покидая своего бульвара, я имею возможность зайти в десяток кафе. Уже по одному этому можно судить о значительном количестве сих заведений в Париже. Что еще больше опровергает пророчество мадам де Севинье, которая говорила то ли, что кафе исчезнет, как Расин, то ли, что Расин исчезнет, как кафе.
Однако же эти места с каждым днем становятся ярче, изящнее и богаче, чем прежде (по крайней мере, на вид); когда глаза устанут от сияния зеркал, позолоты и газовых ламп, вы поймете, почему владельцы роскошных караван-сараев не встают чуть свет, подобно виноторговцу и бакалейщику, продающему рюмочку посыльному. Официанты, уставшие от работы до поздней ночи, следуют примеру своих хозяев, и поэтому в семь часов утра кафе не работают.
Такси и кабриолеты о сю пору все еще редки, и тишина изумляет даже прохожих. Вот уже первый рабочий бежит на работу, держа под мышкой треть четырехфунтовой буханки, которую он съест на завтрак и которой светскому человеку хватило бы на шесть приемов пищи. Но люди, встающие рано, обычно обладают отличным аппетитом.
Вот несколько опоздавших работников; вот безработные или работающие сдельно; а потом и те, кто бездельничает вместо того, чтобы работать.
Двое мужчин подходят друг к другу. Легко заметить, что это рабочие. Один из них выглядит весьма респектабельно: куртка застегнута на все пуговицы, картуз прикрывает макушку и вдобавок еще чулки в башмаках и хлеб под мышкой; у другого – старая красная шапченка сдвинута на одно ухо, как у хулигана, он неряшлив, куртка и рубашка расстегнуты, штаны как будто вот-вот с него спадут, и в довершение всего у него во рту трубка. Прислушаемся к их разговору:
«Куда это ты так торопишься, Пулар? Погоди, не гоже тебе проходить мимо старых друзей, не останавливаясь».
«Да никак это ты, Балоше? Разгуливаешь, ручки в брючки! У тебя что – выходной?»
«Да уж, право же, конец недели, поздно уже, не стоит и начинать. Пойдем, промочи чем-нибудь свою глотку».
«Я не могу. Я уже и так припозднился, а работа спешная».
«Пойдем, говорю, боишься нагоняя, тихоня?»
«Я должен работать. Мне нужно кормить четверых детей».
«Ну, а где же твоя жена? Почему она об этом не позаботится? Это ниже человеческого достоинства — заморачиваться из-за сопляков. Слушай, Пулар, мужчина всегда должен сохранять достоинство. Я – передовой мыслитель, да-с».
«А я думаю о том, как накормить детишек, при том, что у моей жены достаточно забот: мыть их, следить за ними и готовить на всех нас».
«Разве это не женское дело — подметать комнаты и кормить сопляков? Батюшки, Пулар, да ты отстал от жизни! Заходи к виноторговцу — за мой счет!»
«Спасибо, я не могу».
«А ты всё тот же известный трусишка. Тебе следует взглянуть на вещи в нашем свете, Пулар. Слушай, надо знать свои права и сохранять достоинство — мужчина должен командовать и ходить куда хочет, и заниматься политикой, когда ему заблагорассудится».
«А дети тем временем помрут с голоду».
«Да разве не женщины за них в ответе? Ты в этом ничего не смслишь. Что до меня, то я должен поддерживать свой авторитет, и я способен очень даже далеко пойти».
«Остальное ты расскажешь мне в другой раз. Прощай, Балоше!»
«Послушай, Пулар…»
Рабочий был уже далеко. Бездельник пожал плечами и направился к винной лавке, бормоча:
«Никак не заставишь этого парня прислушаться к голосу разума. От него никогда ничего не добьешься».
Этих двоих сменяют две молоденькие девушки, которые перед тем, как пойти на работу, заходят за порцией молока для завтрака.
Взгляните на эту толстую молодую крестьянку с широким лицом и большими розовыми щеками, она каждое утро приезжает из Нуази-ле-Сек на своем ослике, нагруженном жестяными бидонами, полными молока, и маленькими баночками, в которых, как она старательно нас уверяет, у нее сливки. Ослика отдают под чей-то надзор, так как ослам не разрешается стоять на углах улиц или бульваров из опасения, что их окажется слишком много.
Молочница устраивается напротив соседнего дома; она окружена своими кувшинами и бидонами. Временами она так спешит, что не знает, кому ответить прежде: все маленькие девочки, все горничные хотят, чтобы их обслуживали одновременно.
«Мое молоко, Тереза, я спешу!”
«Мое молоко, Тереза, вчера я работала допоздна, и мне нужен кофе».
«Молочница, вы мне не долили».
«И я тоже не получила что причитается».
«У меня ваше молоко, увы, вчера прокисло».
Молочница, всегда спокойная посреди этого словесного потока, обслуживает каждую из своих клиенток, уверяя их, что ее молоко всегда превосходно (когда что-то случается, виноваты коровы) и, освободившись от молока и осадившей ее толпы, она улыбается симпатичному пареньку в легком костюме.
Это мальчишка пекаря, который разносит хлеб клиентам своего хозяина. Вам должно быть известно, что мальчишки пекарей обожают посмеяться и что они питают неизменную слабость к молочницам, считают себя очень привлекательными и горазды каламбурить.
Молочницы не понимают каламбуров, но они смеются так, как будто понимают, а у мальчишки всегда при себе склянка, на тот случай, когда ему захочется попить кофейку.
Но вот картина оживляется, Париж пробуждается, магазины открываются. Молодые продавщицы появляются в их дверях, всё еще в папильотках и утренних платках, но уже любопытствуют, не разложили ли их соседки новые товары.
Портье и консьержки делят территорию, под стать уличным фонарям. Опираясь на свои метлы, они слушают служанок и делятся с ними всеми новыми скандалами, которые им удалось подцепить.
Парижский портье — известный сплетник и гнусный клеветник. Я знавал одного, который развлекался тем, что писал анонимные письма жильцам всего дома; а так как он многое повидал, то посеял в доме раздор вместо того, чтобы подметать у своего подъезда.
Но уже поздно: мальчишка пекаря поднимает свою корзину с хлебом, которую поставил возле бидонов молочницы. Он дарит толстушке одну из своих самых соблазнительных улыбок, она бойко отвечает ему, и они расходятся, он – разносить свой хлеб, она – собирать пустые бутылки.
Молочница ушла, взяла своего ослика и вернулась в Нуази-ле-Сек. Молочница ничего не знает о Париже, кроме дороги, ведущей туда, где она продает свое молоко.
Теперь рабочих больше нет, и мы наблюдаем поток конторских служащих. Вот целеустремленно поспешает один – со свертком в кармане, пальто застегнуто до подбородка – он разговаривает сам с собой, будто сочинитель водевилей.
Другой бредет враскачку, кружит, заглядывает в каждую витрину, останавливается поглазеть и на собачью драку, и на строящийся дом, и на объявления на каждом фонарном столбе.
Многие из них проносятся, как петарды, не глядя ни направо, ни налево, с весьма деловым видом, со свертками бумаг под мышкой, они всегда отменно причесаны и в превосходно начищенных ботинках. Как правило, служащие хорошо ухожены.
Но время служащих проходит очень быстро. И вот уже появились люди, которые ходят по своим собственным делам. Поношенное платье и грязные сапоги – их узнаешь сразу. В плохую погоду у этих людей нет зонта, а конторский клерк никогда не ходит без зонта, если небо выказывает хоть малейшую расположенность к дождю.
Мелкие лавочники разложили свой товар на тротуаре.
Вот лавка, где продают фарфор: чашки, кружки, тарелки: все кажется на диво дешевым, и вы не сразу замечаете, что все эти предметы имеют какой-то изъян.
Кто эти господа в сюртуках, застегнутых до подбородка, и в фуражках с козырьками, доходящими чуть ли не до носа? По их акценту, по национальному признаку, отпечатанному на их физиономиях, вы сразу же узнаете потомков великого Авраама, детей Израиля, того давно гонимого народа, который все-таки пробился в мир. Вообще говоря, преследуемые люди приобретают либо богатство, либо славу. Евреи – прирожденные покупатели и продавцы, и я не упрекаю их, а напротив, превозношу их ум, ибо торговля — единственное истинное богатство в мире. Все остальные виды богатства условны. Золото, серебро и банкноты имеют чисто условную ценность, которую мы им приписываем. Но именно коммерция заставляет их обращаться, что дает работу многим миллионам людей и переносит с одного полюса на другой наши промышленные изделия и продукты нашего климата. Это безусловное богатство, дающее жизнь всем прочим.
Мы говорим, что потомки Израиля рождаются с коммерческими инстинктами, как итальянцы рождаются музыкантами, англичане – прирожденными мыслителями, немцы – курильщиками, а французы – насмешниками. Вы встретите еврейских мальчиков восьми-девяти лет, идущих с одной плоской корзинкой на всех. Они начали с того, что нашли булавку, потом стали искать другие. Набрав сотню, они стали устраиваться в дело, то есть стали торговцами булавками, а через несколько лет у лоточников будет ларек, потом лавка, а потом и приказчики, и кто знает, на чем они остановятся.
Но вернемся к этим людям, расположившимся на бульваре. Один вытаскивает из-под полы сюртука своего рода складную деревянную подставку, на которую ставит плоскую квадратную коробку с приподнятой крышкой и показывает кучу колец и булавок с камнями всех цветов. Так на ваших глазах возникает прилавок. Человек начинает выкрикивать: «Взгляните, дамы и господа, здесь есть что выбрать! Все прекрасные драгоценности и прекрасные камни оправлены в золото! Все с пробами, господа, все с пробами! Смотрите сами, я не стану вас обманывать! Тридцать су за золотые кольца! Продаю за бесценок по причине крайней нужды, ловите свой шанс!»
Пока этот господин расхваливает свой товар, двое его товарищей, выступающие в роли сообщников, останавливаются перед его прилавком, который тот поставил как раз посредине бульвара, и притворяются заняты выбором колец и брошек. Затем они роются в карманах и, вытаскивая пятифранковую монету, платят ему за них, и все это продолжается долго, потому что они надеются, что это привлечет внимание каких-нибудь бездельников или, еще лучше, какого-нибудь глупого пескаря, который поведется на их пример, решившись, скажем, купить колечко в подарок жене или дочери. На самом деле бездельники останавливаются, смотрят, слушают, но мало кто из них покупает. Поймать парижанина становится всё труднее.
Но, кроме сообщников, которые окружают прилавок и притворяются покупателями, на бульваре тут и там стоят другие: это пикетчики, обязанные подать сигнал тревоги, как только на горизонте появится полицейский или сыщик. Похоже, что эти прекрасные драгоценности с пробами вряд ли выдержат пристальный взгляд властей, ибо, стоит пикету поднять тревогу, посмотрите, с каким ловким проворством торговец драгоценностями закрывает свой ящик, складывает прилавок и скрывается в толпе. Я видел, как они в спешке роняли часть своего товара и даже не останавливались, чтобы его подобрать.
Это докажет вам, что в Париже существует очень своеобразная промышленность и что «не всё то золото, что блестит».
Вагоны и кабриолеты сменяют один другой; омнибусы и другие транспортные средства проезжают почти каждое мгновение. Ездить в кабриолетах стало теперь так легко и так дешево, что я удивляюсь, видя в Париже столь много пешеходов.
Два часа пополудни. Оживленная сцена в самом разгаре. Какая суета и спешка, какое разнообразие людей, какие контрасты в физиономиях и фигурах всех этих персонажей! Там молодые и хорошенькие женщины, элегантные, грациозные, прогуливаются, стремясь вызвать восхищение, здесь какая-нибудь бедная пенсионерка, пытающаяся кутаться в старую истрёпанную шаль.
Следом молодой человек средних лет, с тонкими усиками, которые соединяются с гигантскими бакенбардами и с козлиной бородкой на подбородке, в остроконечной шляпе на макушке, из-под которой его волосы развеваются тщательно завитыми локонами. А вон некто в бархатном жакете и таких же брюках, без жилета и с очень незначительным числом пуговиц на штанах и жакете; его рубашка распахнута спереди, что позволяет увидеть грудь этого господина и свидетельствует о том, что он преизрядно похож на медведя – знание, без которого мы вполне могли бы обойтись.
И этот неряха в расстегнутой одежде, с багровой физиономией и нетвердой походкой, говорит вслух, часто даже поет на ходу и притворяется, что использует самые развязные речи и самые непристойные выражения всякий раз, когда проходит мимо добродетельной дамы или скромного вида девицы; а арестовать этого негодяя некому. Разве эти люди, желающие выставить перед нами свои пороки, свою гнусность, свое заразное дыхание, не заслуживают такого же наказания, как и те уличные торговцы, не имеющие лицензии? Во Франции к такого рода правонарушениям относятся недостаточно сурово, что превращает их в чрезвычайно распространенное явление, поскольку нам посчастливилось обладать свободой, которую многие люди превращают в распущенность.
Но кто эти пожилые супруги, которые появляются из-за угла бульвара и, кажется, хотят расстроить всех на своем пути?
Дама отменно уродлива и весьма неприятна на вид. Высокая, худая, тощая, сухопарая и желтая, у нее огромная шляпа, на которой множество цветов, страусиные перья, марабуты, тюль и пышные банты. Эта шляпа должна быть изрядно утомительна для всякой, кто ее носит, и когда дует ветер, дама непременно должна иметь подле себя кого-то, кто станет прижимать ее к земле, иначе шляпка заставит ее вознестись.
Но мы еще не всё видели. Под шляпой находится чепчик, а чепчик украшен искусственными фруктами. Вы знаете, что с некоторых пор мода заменила цветы фруктами. Эта дама, несомненно, подумала, что они хорошо сочетаются с ее лицом, потому что у нее на каждой щеке по грозди винограда, а на лбу — по грозди красной смородины. Представьте теперь это старое желтое лицо, окруженное виноградом и смородиной, да еще в тени перьев и цветов, и вас не удивит, что все оборачиваются, проходя мимо этой дамы, и что некоторые восклицают:
«Что это? Вы видели этот огромный труп?»
«Да, он меня так напугал! Будто мумия прошла».
«Ну, на мой взгляд, это больше похоже на обезьяну, замаскированную под женщину».
«Это какая-то иностранка, вышедшая подышать воздухом ради здоровья».
«Клянусь богом! Она выглядит так, что немножко здоровья ей точно не повредит!»
А рослая дама, которая время от времени слышит эти замечания в свой адрес, бросает яростные взгляды на толпу и, сжимая руку мужа, говорит ему:
«Проходите, мсье Молле, не задерживайтесь подле этих низких людишек – они могут стащить с меня шаль, а вы уж точно не побежите за вором.»
Месье Молле — невысокий, тяжеловесный, краснолицый, кривоногий мужчина, который постоянно носит фланелевое нижнее белье, а поверх него две рубашки, тонкие панталоны, толстые шерстяные брюки, два жилета, жакет, сюртук и пальто. Легко понять, что эта колоссальная масса движется с трудом. Когда месье Молле хочет достать из кармана носовой платок, он начинает со вздоха, затем останавливается, отпускает руку жены, дает ей подержать свою трость и пытается воспользоваться своими руками; но он никогда не бывает уверен, в какой из карманов положил носовой платок, и осмотр часто оказывается столь долгим, что мадам Молле в конце концов отдает мужу свой собственный носовой платок, и тот берет его с благодарным взглядом и бормочет: «Спасибо, дражайшая!»
Месье Молле снова берется за трость и за руку жены, и пожилая пара снова трогается в путь. Дама уверена, что для нее следует выстроить почетный караул, потому что на ней настоящая индийская кашемировая шаль; а ее муж, столь же глупый, как и лучшая его половина, думает, что все восхищаются его красивой бриллиантовой булавкой и красивой тростью с золотым набалдашником.
Мне незачем говорить вам, что эти люди не графы и не маркизы. Истинное благородство может быть надменным, высокомерным, тщеславным, но оно никогда не бывает смешным.
Ларошфуко сказал: «Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился».
Что до меня, то я полагаю, что человек сохраняет и «отпечаток» того дела, которым занимается; он остается в манерах и в поведении так же, как и в речи. Эти дама и господин в прошлом были пекарями и вышли из дела с доходом в тридцать тысяч франков. Безусловно, люди могут быть весьма почтенными и, тем не менее, продавать булочки, но впоследствии им не пристало вести себя с излишним апломбом.
Расстанемся со старой парой. Давайте теперь посмотрим на этих детей с их нянюшкой. Румяные, свежие, милые детишки, которые с таким удовольствием прыгают и вьются перед каждой игрушечным лавкой. У мальчика есть обруч, и он хочет запустить его сквозь толпу, которая часто загораживает проход. У девочки есть мяч, который она кидает перед собой, чтобы побегать за ним в собственное удовольствие. Но ей всего три года, и няня не должна отпускать ее одну; к несчастью для ребенка, няня встречает землячку из своей деревни, и ей куда приятнее узнавать новости своего края, чем бегать с ребенком за мячиком. Не прошло и пяти минут, как мальчик уже разревелся, пытаясь вытащить свой обруч из-под ног каменщика, а девочка разбила себе носик, слишком быстро погнавшись за своим мячиком.
Прохожие подбирают детей, но няня даже не слышит их криков, потому что землячка рассказывает ей о женитьбе ее брата Жана-Луи на дочери мельника; наконец кто-то обращает ее внимание на двух орущих детей и спрашивает, не находятся ли они, случайно, на ее попечении. Нянька бранит их обоих и грозит выпороть, если они расскажут маме, что упали, а дети с терзаемыми мукой сердцами и измазанными пылью лицами обещают ей ничего не говорить; и тогда она, чтобы вылечить шишки на лбах, подводит их к торговцу какао и говорит им: «Сейчас я вас угощу».
Продавец какао — существо классическое, как и продавец удовольствий, и дети столь же классические, потому что всегда любят удовольствия и какао.
Нет ни одного доброго народного праздника, ни бесплатного спектакля, ни показа в театре, ни смотра на Марсовом поле, ни ярмарки на окраине Парижа, ни шествия на бульварах, где бы не было продавца какао. Взгляните на его посеребренный фонтанчик, отполированный до блеска, украшенный цветами, лентами и крошечными колокольчиками. Он – странствующий самаритянин.
У торговца какао обычно нос столь же красен, сколь бел его фартук, и это наводит на мысль, что честный, трудолюбивый человек не утоляет жажду собственным товаром, не растрачивая свои запасы. Вид у него приятный, и он вышагивает уверенно, несмотря на несомый на плечах резервуар, крича, порой с изрядной хрипотцой: «А вот кому? Свежее какао! А вот кому?» и сопровождая этот крик сотрясением своих колокольчиков и кубков, производящим нечто подобное турецкому звону, крайне приятному для слуха. Меня удивляет, что до сих пор не нанимают продавца какао на концерты-монстры.
А люди неуклонно проходят мимо, и мы позволяем некоторым очень оригинальным персонажам ускользнуть от нас. Во-первых, сей горбатый господин, раскачивающийся при ходьбе с великой претенциозностью, глазеющий на дам с таким озорным выражением лица, воображая, что те не замечают уродства его фигуры, ибо он всегда одет по последней моде.
Люди идут всё быстрее: время обеда, и это не может не вызывать ускорения. Одного ждет жена, которая отругает его, если он опоздает. Другой собирается обедать в городе и должен сначала зайти домой, чтобы переодеться.
Элегантный кабриолет, управляемый франтом, быстро проносится по дамбе. Будьте осторожны! Он не станет кричать «Берегись», он вас задавит, если вы вовремя не уберетесь с дороги. Пропустите его, бедные пешеходы, разве вы не видите, что этот господин является учредителем компании, которая вместо того, чтобы платить акционерам, предпочитает ослеплять их своим великолепием?
Минуточку! Вот толстая, коренастая коротышка желает сесть в омнибус. Кондуктор ее не видит. Коротышка крайне несчастна: она не может кричать, потому что простудилась, она не может бежать, потому что несет корзину и картонную коробку. Она останавливается посреди улицы и разыгрывает весьма выразительную пантомиму, пока не слышит грубые голоса, орущие прямо ей в уши:
«Эй ты там, прочь с дороги!»
Предостережение исходит от каких-то мужчин, переносящих мебель. Бедняжка вынуждена уйти с дороги и ждать, пока Провидению будет угодно послать еще один омнибус, что Провидение проделывает каждые пять минут.
Но куда направляется эта радостная парочка? Лица у них мещанские, манеры самые обычные; у женщины чепец, у мужчины серьги в ушах; они расталкивают всех, кто оказывается у них на пути; будь это в их силах, они опрокинули бы лавки, ларьки, торговцев – лишь бы добраться до места назначения.
Это мелкие лавочники, идущие на спектакль, в театр, который они обожают и который их средства не позволяют им посещать более четырех раз в год. Так что они не намерены пропустить ни одного действия, ни единой сцены, ни малейшего словца. Они выбрали театр, где дают самые длинные представления. В «Амбигю Комик» теперь на афише три полновесных, изрядно поставленных мелодрамы. Если бы другой театр предложил четыре мелодрамы, они бы пошли туда; но так как до сих пор больше трех никто не давал, то наша молодая парочка шествует в «Амбигю».
Они прибывают раньше пожарного, раньше городской стражи; они видят барьеры, поставленные для очереди; они видят, как проходят рабочие сцены; они все еще одни перед кассой и, несмотря на это, твердят: «Только бы были места!»
Нам не следует смеяться над этими людьми; пьеса доставит им наслаждение, которого нам не дано понять и которое никогда уже не испытаем – мы, разочаровавшиеся в декорациях, слушающие не больше трети времени и видящие всего лишь актеров там, где они видят персонажей.
Но вот спускается ночь. Кафе освещаются газом и сияют; магазины делаются все красивее, потому что разложенный товар редко не выигрывает от того, что его видят в искусственном свете. Это настоящее время для прогулок: вечером никто не ходит по делам, все прогуливаются ради собственного удовольствия.
Это время, когда галантный муж ведет жену выбирать шаль из лучшего шелка, которую он хочет ей подарить. Только посмотрите, как довольны эти дамы, опирающиеся на руки своих оруженосцев и указывающие им на ткани для платья или накидки, очаровательные в газовом свете.
Взгляните также на служащих, направляющихся в кафе, чтобы поиграть в бильярд или домино, и на тех, что усаживаются на веранде пить пиво, которое официант глубокомысленно встряхивает таким образом, что треть бутылки выливается на стол.
Как все веселы, оживлены, бодры и довольны жизнью! В свете газового фонаря парижане, в самом деле, кажутся весьма удачливыми, и иностранец, прогуливающийся вечером по нашим бульварам, украшенным столь блестящими магазинами и кафе, так оживленным театрами, променадами и снующими торговцами, обязан приобрести чрезвычайно благоприятное представление о городе и его жителях.
Но внешность часто обманчива. Эти мужчины, которые ходят в кафе для развлечения, разгорячатся от пунша, станут вздорить и, возможно, дело кончится дракой; эти супруги, кажущаяся такой идеальной парой, уйдут домой, дуясь друг на дружку, ибо месье не удовлетворил всех желаний мадам; купцы закроют свои лавки и будут жаловаться, что они за целый день ничего не продали; а пожарные пойдут домой ругаясь, что театры работают так поздно.
Следом за этими молодыми людьми, которые идут, распевая и смеясь после позднего обеда, съеденного в «Венданж де Бургонь», идет бедный отец семейства, который не знает, как вернуться домой, потому что у него нет хлеба для детей, или старик, пристыженный и дрожащий, подходит к вам, не смея просить, но бормоча какие-то слова, которые вы сразу поймете, если в вас есть хоть толика сочувствия.
Тогда вы чувствуете, что не всё происходящее перед вашими глазами столь радостно; что в этой сцене больше движения, чем счастья; что некоторые стремятся позволить себе роскошествовать не по средствам, а другие притворяются смущенными, чтобы не показаться нелюбезными; что в этих хорошо освещенных магазинах больше показухи, нежели удобства; что в домах этих людей, желающих выглядеть так, будто они только и делают, что развлекаются, больше утомления, нежели удовольствия. На самом деле то, что непосредственно и свободно от жеманства, реже всего увидишь в большом городе, где люди, кажется, опасаются даже ходить или ездить верхом естественно.
Но спектакли закончились. Время последних быстрых сделок для кондитеров: почти все завсегдатаи райка желают угоститься пирожными; они моментально выстраиваются в очередь, чтобы получить свой товар с пылу-с жару. За последние несколько лет торговля пирожными значительно увеличилась и кондитеры быстро на ней наживаются. Вы можете каждый вечер наблюдать в оркестре «Опера-Комик», среди верных покровителей этого театра, бывшего торговца пирожными, и это доказывает, что, замешивая тесто, он имел также некоторый вкус к музыке. Мне только жаль, что он не стал патроном «Буфф Паризьен».
Людей становится все меньше, магазины закрываются, гаснут газовые лампы, некоторые огоньки кафе еще озаряют бульвар, но скоро и они померкнут, и от всего этого зарева, освещавшего бульвар, останутся лишь мерцающие в темноте уличные фонари.
Давайте еще немного подождем, прежде чем отойти от окна. Я думаю, мы увидим кое-что еще, ведь те люди расхаживают перед тем большим домом не без причины.
Вы, может быть, думаете, что я собираюсь сделать вас свидетелем сцены грабежа? Успокойтесь, это было бы совсем не смешно, не интересно и не ново в большом городе. Вы увидите нечто гораздо более оригинальное.
Подождите-ка: вот кто-то открывает окно на третьем этаже большого дома, в нем появляется человек и смотрит вниз на бульвар. Снизу ему кричат: «Давай, быстрей!»
Бряк! Шмяк! Хрясть! Через несколько секунд из окна вылетают три матраса, затем кушетка, затем комод, два стула и два узла, падающие прямо на матрасы. Владелец предпочитает, чтобы его мебель была сломана, а не продана за долги. Теперь вы понимаете, что то, что вы видите, — это переезд не уплатившего за квартиру бедолаги, которому домовладелец сказал, что своих вещей ему с собой не унести. Несчастный жилец со вздохом ответил: «Не унесу».
И в самом деле, он ограничился тем, что вышвырнул их из окна, а унесли их двое его друзей. Через несколько минут именно это и произойдет; а на следующий день арендатор уедет рано чуть свет.
Вы, несомненно, не ожидали, что люди переезжают так поздно. Но в Париже делается очень много вещей, которых мы еще не видали и, если эти картины вас позабавили, вы можете в другой раз увидеть, что следует за ними, установив самих себя у моего окна с полуночи до семи утра.
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО: НЕГА ГРЕЗИНА
«…невозможно, чтобы это действие могло погибнуть, пока длится его причина».
Спиноза, Краткий очерк о Боге, человеке и его счастье, гл. XXVI
(Перевод с голландского под редакцией A. И. Рубина)
«…вообще в нас нет ничего такого, чего бы мы не имели возможности познать».
Там же, глава XIX
«…нам прежде всего необходимо всегда выводить все наши идеи от физических вещей (res physices) или от реальных сущностей (entia realia), продвигаясь, насколько это возможно по ряду причин, от одной реальной сущности к другой реальной сущности…»
Спиноза, Трактат об усовершенствовании разума
(Перевод с латинского Я. М. Боровского)
1
С краю
нет ничего, кроме
кухни, пристани внутри дома,
И мы в ней, словно внутри тела.
Снаружи, с другой стороны,
кто-то с граблями в руке
пересекает двор, сгребает
и стирает наши следы,
свои следы,
как будто такое возможно.
Похоже, что-то происходит,
но нет: только
половинка двери (как вещь в себе) захлопнулась
в полдень
2
Я готовлю себе кухню в кухне,
Бесконечная куча
всякой всячины.
Свет покрывает свет,
покрывающий тьму –
оболочку сущего.
Мы движемся на самый дальний
восток внутри нас.
Начинаем с какого-то иного образа мысли
и знаем:
мы начинаем, но это не начало.
Когда говорят «расстояние отсюда до туда»,
что именно говорят?
Что кто-то ближе, чем я, к истинному
3
Кухня готова, она создаёт свои
собственные орудия, чтобы добыть с их помощью
огонь
как ветка, тянущая смолу –
оттолкнуть тень.
Бог моего детства населяет местные
предметы, покрывается мелкой медной пылью.
Муравей его приветствует, держа
невидимое
как орудие труда,
чтобы навести порядок на местах.
по его походке я понимаю, что муравей
заявляет о своем праве быть,
действовать, жить
и подобен корню, спускающемуся в колодец, из которого
пробивается сила очищения
4
Теперь дам каждому предмету
имя и происхождение,
касающиеся его
предостережения – от воды, огня, падения –
и пути его очищения
чтоб не пропал в повседневности.
Предметы за предметами спешно собираются,
как стадо на пути к корыту.
В предметах – предметы, молча держащие
ручки предметов.
Пришло время сказать что-нибудь о не-
материальности предметов
и их насущности,
но, похоже, опыт учит другому:
нет ничего полезнее, чем
стирание и задержка
5
кухня, как эпос, основана на
древней форме, которая создаётся
и продолжает создаваться
из себя, а не из чего-то другого,
как будто все это было здесь
изначально, объятое
востоком,
– карманом, в который мы лезем искать
свою пользу.
Я хочу (как Вальтер Беньямин), чтобы все мои друзья
жили в том месте, где живу я, особенно,
мои мёртвые друзья.
Есть миг, когда ты стоишь перед огнем и спрашиваешь,
на твоей ли стороне огонь,
на твоей ли стороне детство,
которое для тебя – долина промедления
6
Муравей соглашается со Спинозой:
можно исцелиться от печали,
и отказывается пользоваться словами
вечный, постоянный и не-
изменный.
Он знает, что сердце кухни –
картошка.
День уже прошел
и не перестает
проходить
по краю бездны и оглушать.
Теперь, когда день всё проходит, голоса
внутренних органов, их сердца тянутся
к внешним голосам,
что обладают иной скоростью
7
Огонь не перестаёт становиться
формой, чтобы держаться
за себя.
Я наставляю домашних комаров, блуждающих
между хлебом, солью и медом.
Местные черви ждут своей очереди, и пауки.
На южной стороне кухни змеи
сидят в земле, как ключ,
копирующий себя в замке
и я должен сообщить друзьям, что кухня –
это одно дело, а желание
собираться на кухне – другое,
как одежда с карманом, полным сущего,
и карманом, полным ничего, а между ними –
все преходящие
вещи, чем бы они ни были, не
делая из мухи слона
8
И ничего-то я сегодня не делал, только
пребывал среди настоящих вещей,
делающихся вещами в процессе
делания вещей.
Быть предельно элементарным, насущным,
почти деревенщиной.
Понимать,
что простая по сути идея
не может быть
ошибочной.
Что означает «простое», если не форму?
Как воробей с грудкой
в утренней росе опускается
на истину,
как на гибкую ветку
9
хлеб переворачивается на бледную сторону
(Точно ангел в стихотворении
Рембо) и не унимается,
даже если его снова и снова рассечет нож,
в нём всё ещё будет сокрыто открытое.
Ужин защитит нас
от невидимой,
сгущающейся изнанки дыма,
а нам, знающим суть эпохи,
в которую живём, следует вести себя осмотрительно
при передаче вещей.
Маленькие тёмные звери прибегают, как будто
истинное было горкой сахара
10
Сладкое прельщает огонь
грушевым пирогом.
Чем проще этого достичь,
тем больше жаждет душа раскрыться
во многих других предметах.
То, что передо мной трепещет – чистая складка
исчезновения, из неё
поднимается славный запах горячей муки.
На это надо опираться, говорить об этом и о
том, как сократить путь.
Потом бить тесто кулаками любви
как если бы то был материал, не прекращающий
повторяться
11
Кухня передвигается в кухне с места на место.
Кухня больше картошки
скукожившейся в духовке, но прежде всего
она – это она.
Похоже, в воздухе какой-то нежный деревенский
духовой инструмент
но нет,
его нет. Я смотрю на него в окружении языка.
Нечто, что собирается здесь произойти
уже потихоньку происходит, обретая форму
в дымке, а ты
научи своё тело непротивлению,
как боец айкидо
12
О чем мы говорим битый час?
О предметах, из которых сделаны другие,
простые по назначению, предметы,
в которых скрыты тайные предметы
первой необходимости подобные
алхимическому муравью, занятому
только собой, своими конечностями, своими антеннами,
как будто он настоящий.
А я хочу понять вещи,
которые изо всех сил держатся внутри
того, что их держит
изнутри, как если бы они были волокнами грубой материи
в мире металлов.
Да что я знаю о том, что
там за всем этим кроется
13
скажу здесь слово о бесконечной
кружащей по кухне мухе.
Она перелетает от огня к огню и к огню
обращает свой взор.
Огонь открывает ему дверцу
и тут же снова исчезает
в себе самом.
А душа мухи тянется к огню,
который стирается и рождается, как мелодия.
Она знает, что огонь открыл ей вход,
чтобы пробудить в ней любовь
к другой стороне.
Остановись. Не возись с этим больше
14
Мы возлагаем руки на руки
внутри двойного
сосуда с водой,
рычим от наслаждения перед ужином
будто в восточном гимне,
всегда освящающем случайное и стороннее
во рту –
миниатюрном вулкане
колдовских похвал и восторгов.
Можно было подумать, что-то происходит,
между жаром и жидкостями, но нет,
минералы отделяются от трав вечно
расплетающихся историй,
чтоб свидетельствовать о сущем,
быть тонкими золотыми нитями нашего детства
15
яблоко (спиной к двум яблокам на
прямоугольнике стола) повторяется
в глазном яблоке,
нужное накапливается, чтобы быть увиденным.
Я принимаю свою участь на этой радующей меня кухне,
я участвую в этом прекрасном транжирстве.
Я преклоняю колени среди предметов. У каждого предмета
корень погружается в тишину,
один ниже другого.
Новые предметы, как огненные язычки
возносятся, ведут к
могуществу вещей вне нас.
Как будто предметы были стадами, сияющими в долине,
пасущимися и пожирающими долину
пока не исчезнет
16
Все, что я написал о предметах
ещё будет написано о предметах.
В недрах предметов происходят промедления, откровения.
(Кислота памяти разъедает детали и
фиксирующую их каллиграфию).
Сказали когда-то (Притчи 1:14)
«общий будет у нас карман».
Есть ли предмет, которому нет замены?
Потом я очищу стол от его столовости.
обращусь к меду как к последнему выходу
до наступления ночи,
окончательность ночи настолько насущна,
что не перестаёт начинаться
(или другими словами – верно ли, что впредь
то, что еще не произошло
не перестанет происходить?)
ПЕРЕВЕЛА С ИВРИТА: ГАЛИ-ДАНА ЗИНГЕР
МАРШ ПРОЗРАЧНЫХ НОЖЕЙ
Лица пустынны.
Тенью крадётся
драконья печаль.
Вид за окном
скрутился в рулон
стал похож на
твои представления о сегодняшнем утре.
Застучал марш
прозрачных ножей
сброшенных с черных кораблей
пронзить до основания.
ПУТИ СПАСЕНИЯ
Темнота.
Хоть выколи глаз.
Свет кажется великим обманом.
Ночь как иллюзионист
привыкший доставать из ящиков
свидетельства разных миров
еще обещает представление.
Порой на дороге у парка с фиговыми деревьями
я вижу, как лабрадор ведет незрячего человека.
Человек погоняет лабрадора палкой. Кричит.
Они главные действующие лица на серой дороге.
Короткий поводок кричит о необходимости.
Они удаляются, слышен еще один крик.
Между землёй и небом дрожит его несогласие.
Я бы хотела выйти из
темной ночи к тихому свету.
Тело словно вдавилось в матрас железной фигуркой.
Меня теперь не найти.
Сделать движение — взорвать эту кровать, эту комнату…
Я сочиняю пути спасения.
Синий, сиреневый, белоснежный
как накрахмаленная кружевная скатерть
на черном столе.
Дом, в котором я обитаю, стоит на склоне холма. К северу внизу проходит железная дорога, а с юга течет речка, и к ней обращено окно моей комнаты. Речка маленькая, узкая, шириной метра два. Называется Аммер, что означает Овсянка, не каша, а птица. Собственно, Аммер проходит севернее, за путями, а моя река называется Аммер-канал, там вроде бы монахи веке в двенадцатом проложили этот канал, который и следует поэтому вдоль холма, по склону, параллельно возвышенной части, а не внизу, как бы полагалось. Тем не менее, чуть выйдешь на террасу через восточную дверь слева от окна, в паре шагов видна вода реки. Немного ниже по течению речка делает маленький порог, затем уходит под здания и появляется далее рядом с большим старым водяным колесом, которое ныне бездействует. А еще дальше она течет уже по городу, и по ее набережным при желании можно прогуливаться.
Внизу у двери на террасу лежит базальтовая голова. Она изображает китайца с косой в созерцании дзен. Сделал ее скульптор Дани Дадон, а мне передал в знак признательности за собаку. То был красивейший светло-шоколадного цвета пес породы доберман. Только голубые глаза его были чуть не умны. Но едва Дани его увидел, он задрожал от восхищения. Пришлось дарить. Через несколько месяцев Дани пришел ко мне с головою под мышкой, а она довольно тяжелая. С тех пор так и лежит у меня на полу. Вообще у Дани Дадона было много скульптур: из базальта, известняка, а также из дерева: головы или собрания голов, рыбы и многое прочее. Один гигантский булыжник с изображением фантастического автопортрета какое-то время украшал подход к его мастерской, потом к ресторану неподалеку. Всё это было давно, еще в Тивериаде. Жил Дани в Мигдале, не в древней Магдале у самого озера, а в нынешнем поселке чуть вглубь долины Арбель. Там этот пес передушил всех окрестных кошек, но и сам через несколько лет погиб под колесами военного джипа.
Выше и левее головы висит маленькая картина Сережи Есаяна в широкой гладкой золоченой раме. Это левкас с изображением двух ангелов, которые раскрывают в небе занавес, а за ним – пустыня.
Под картиной старинный шкаф. Говорят, что стиль его – александровский ампир. Приволокли его в Израиль откуда-то из Средней Азии. Он почти весь сломан: в нижних ящиках двигается дно, малиновая ткань секретера истлела полностью, внутренний замок одной из полукруглых с черными колоннами дверец не работает. Однако немногое прочее пока цело и служит исправно.
На шкафу множество предметов по большей части вполне бессмысленных. Замечательны из них, пожалуй, только трубные роги да старый барабанчик. Лежит ветвь засохших лавров, а свежие лавры растут на террасе. Ну, дудка, кусок мамонтова бивня, ударный деревянный музыкальный инструмент в форме зеленой жабы. Другой музыкальный инструмент, умеющий издавать одну единственную ноту, но очень чисто, почти как камертон, лежит внутри. Есть еще Есаянова скульптура из выкрашенных в алюминиевый цвет резиновых пробок, изображающая сову. Две фотографии.
Да, фотографии. На одной из них изображен мой внук, который очень на меня похож. На второй – мой прадед, который тоже меня напоминает. Это фотография, на которой сфотографирована фотография, а уже на той фотографии сам прадед. Прадеда звали Израиль-Нохум. Его нашел некий офеня в семье белорусского крестьянина.
– А что это у вас семь детей беленькие, а один черненький? – спрашивает офеня. Тот отвечает, что младенца он принял трех лет отроду после того, как все прочие жители селения вымерли от чумы. Офеня (то есть коробейник, торговец вразнос, как там и тогда было принято) взял мальчика обратно в общину. Ему было уже лет семь. Он вырос и стал красильщиком шкур. Но при этом отличался мистическим отношением к внешним событиям. Рассказывают, что он нарисовал у себя на печи черный круг, и когда его спрашивали: «Дедушка, зачем тебе это?», отвечал, что «это» должно напоминать о гибели Храма. Вот то немногое, что я смог разузнать о моем прадеде. С фотографии смотрит бородатый, с седеющей бородой, человек в черной шапочке лет пятидесяти пяти.
Далее на стене укреплены две вертикальные штанги, а к ним двенадцать кронштейнов, на которых уложены книжные полки. Сами кронштейны слегка выступают за края полок, а на выступах висят кое-какие предметы. Среди них два деревянных шара, вроде тех, что можно вешать на елку. На одном из шаров написана картина Мондриана, прямоугольники разных цветов, на другом – две картины Малевича: спереди на шаре крестьянин, сзади три крестьянки. Сделала эти копии Марина Микова, которая приезжает из Петрозаводска продавать елочные игрушки и разрисованные пасхальные яйца. Она продает еще и Кандинского, Миро, Шагала и других деятелей авангарда. От оригиналов отличить почти невозможно, только размер поменьше и основа сфероидная. Феномен.
С другого конца полок висит, прежде всего, луженая медная тарелка, изображающая мифологическую сцену борьбы с силами хаоса. Силы хаоса представлены в виде крылатой коровы, а борется с ними увенчанный старик, нанося удары ножом в лоб и в пуп. Корова сопротивляется, бьет его по ноге и по руке. Исход сражения неясен, но художник, по-моему, выступает на стороне старика. Работа персидская, сделана во второй половине двадцатого века. Приобретена в Тивериаде. Я долго ломал голову, кому могло понадобиться в нынешнем Иране делать эту выколотку с изображением Рахабы. Ответ был получен совсем недавно, после приобретения книги, в которой собраны основные схематические сюжеты старинных мифов. Там изображена та же сцена, только корова или Рахаба не слева, а справа. Под картинкою подпись: «Мифическая битва. Дворец Дария в Персеполисе. Первая половина пятого века до н. э.». Стало быть, выколочено было при местном музее, не слишком искусно, видно, что в оригинале лев, а не корова.
Пониже висит кусок картона, к которому прикреплены угаритская табличка с клинописными изображениями первого в мире алфавита и круглая печать хеттского царя Мурсилиса. Это слепки музейных экспонатов из Сирии. Ко мне попали случайно.
Под ними доска. Изображено на ней то, что можно принять за свинью, прыгающую возле японского дерева. На самом деле это Вишну и Будда, принявший в одном из своих воплощений образ вепря в соответствии с положениями шинтоистской веры. Приобрел я дощечку близ храма в горах Японии. В самом храме на потолке изображен змей, и когда проходишь под ним, нужно что-то выкрикнуть. Тогда будет удача.
На правом краю верхней полки, немного под углом, стоит икона. Она из сгоревшей в Мурманске церкви. Принес ее мне один молодой человек, из тех, что навещали в ту пору наше общежитие. А было это в 1965 году, зимою.
На полке под нею – складень, Богоматерь Всех Скорбящих Радость, кажется, такое у него название. А подарил мне его отец Всеволод Рошко, католический монах. Сам он большой карьеры не сделал, но брат у него, кажется, и по сию пору, во Франции кардинал. Был отец Всеволод человек замечательный. Он раньше служил на Аляске, у алеутов, своими руками построил деревянную церковь. Рассказывает, как однажды вызывают его к эскимосам. У них был отдельный священник, но простудился, заболел и вынужден был уехать, а тут как раз прибыли несколько монахинь, и надо бы им освятить иглу, в котором они намеревались жить. Раньше иглу принадлежало местному шаману, поэтому требовалось освящение. А Всеволод и сам был простужен. Сунулся он в шкафчик к уехавшему священнику, взял бутылочку и кропит, кропит. Смотрит – монахини что-то морщатся. В чём дело? Отче, пахнет, – отвечают монахини. Посмотрели, а в бутылке-то керосин. У отца Всеволода была еще коллекция эфиопских икон, да он все раздарил перед смертью.
На той же полке лежит каменная рыбка, изделие Дани Дадона. Подарили мне ее владельцы ювелирной лавки. Но им не нравилось, что рыбка серая, прилепили зеленые глаза и поставили на подставку. С подставки она потом отвалилась, а глаза всё на ней.
Под нею на следующей полке маленькая гравюра. Изображает карету в виде рыбы с верхним плавником и с хвостом, с колесами и открытой на боку дверцей, в которой виден сидящий там человек. Рыбу везут три собаки, две черные лайки, одна светлая. На заднем плане деревья и облака. Гравюру сделал Женя Измайлов, тот, что иллюстрировал полное собрание Франсуа Вийона на французском языке и русские его переводы.
Упомяну еще о некоторых книгах, которые стоят полкою ниже. Это многочисленные бестиарии: средневековый, славянский, мифологический, бестиарий любви, бестиарий художника по имени Алоис Цетл, Физиолог, Лексикон динозавров – чем не бестиарий? – книга «Единорог и Соловей» и список чудовищ, употребляемых в компьютерных играх. Рядом с ними: персидская книга «Чудеса мира», китайский «Каталог гор и морей», книга о драконах, «Сказочные звери», «Волшебные камни», «Магические драгоценные камни», «Молот ведьм» (скучнейшая книга), труды Агриппы Неттесгеймского и многие другие. В жизнеописании Агриппы, которого Рабле в своем сочинении обзывает Гер Триппа, замечательна история о том, как назначили его однажды комендантом замка. А тут восстали крестьяне. Так Агриппа всех их схватил и повесил. А профессия у него была другая: врач, маг, философ. Тут же и книга «От рисунка к алфавиту». В ней имеется изображение арамейской надписи, помещенное вверх ногами.
Далее у восточной стены стоит еще один шкаф. На его крыше лежит небольшая арфа. Она сделана из деревянного набора молодым американцем в Тивериаде. Он собирал такие арфы, а потом продавал. Жена его говорила, что это арфа Давида, и даже играла на одной из них, подпевая псалмы. Но всё это была неправда. Простая кельтская арфа, вроде той, что служит гербом Ирландии. Когда я вез арфу в самолете, надо было ослабить струны. Я стал вертеть колки, начиная с самых низких струн, и тут вдруг все остальные со стоном лопнули. Так она и лежит с порванными струнами. А мастер-изготовитель вместе с женой примкнули к группе, ставящей за правило телесную наготу и супружескую неразборчивость, и отбыли жить в этом обществе в пустыню Негев.
На боковой стенке шкафа висит картина Есаяна, изображающая Вольтера, который пишет письмо Екатерине Второй. Вольтер одет в короткий красный плащ веером, костлявой рукой подпирает подбородок. На голове у него волосы завязаны узлом над макушкой, а избыток свешивается двумя волнами по краям головы. Столик перед ним узкий, тонкий, видны еще две ноги, похожие на ножки столика и так же перекошенные. Справа от него трехэтажная книжная полка, под которой ночной горшок. Эта картина послужила образцом для работы, которую нарисовал ребенком мой старший сын. Там я изображен в берете, тоже за столом и со всем прочим. Но ноги у меня поставлены не как у Вольтера.
Здесь, за шкафом, кончается восточная стена и начинается северная. Главная подробность в ней – это дверь из комнаты в остальную часть квартиры. Самая дверь представляет собой мало замечательного, равно как и стоящий левее еще один шкаф. Однако между этим вторым или третьим шкафом и стеллажом при западной стене висит японская ксилография. Ее подарил мне муж моей кузины, а с нею еще две и третью, китайскую вышивку. Вышивка стояла у меня несколько лет лицом к стене. Потом я глянул и обнаружил, что изображает она Хозяйку Запада, богиню Си Ванму в двух возрастах – в виде маленькой девицы и средних лет дамы. Конечно, у нее нет ни клыков, ни хвоста, как на старинных изображениях, однако это Си Ванму, если судить по свисающим куницам или соболям с одежды, трем раскачивающимся фигуркам над головой и не слишком доброму выражению лица. Я потом подарил ее своему старшему сыну. Вокруг нее кузнечик, обезьяна и бабочка.
На одной из японских ксилографий изображено сражение между самураем в зеленой одежде, на которого нападают трое в пестром. Дело происходит в доме, из которого видна река и другие дома. Вдали лежит снег, бегут люди. Там тоже идет битва. Один из персонажей спрятался под крышу и лежит, никем не видимый. Сзади написано, что нарисовал картину художник Фусатане, а изображена на ней сцена из пьесы «Чушингура». В середине плоскость ксилографии еле заметно продрана. Позднее у меня появилась изданная в России книга «Самураи Восточной Столицы или сорок семь преданных вассалов» с полным описанием событий, положенных в основу сюжета этой пьесы, но о картине там ни слова, хотя о пьесе кое-что и говорится.
На обороте другого изображения написано, что автор его Хокусай, хотя сюжет там малоизвестный: сцена вроде как в бане. Полуголые люди энергичными движениями черпают воду, льют, орут, хватаются за голову, просто сидят и млеют.
Третья картина висит у меня в комнате. На ней Дух Ветра с татуировкой на плече расстилает ковер над волнами бушующего моря. Здесь начинается западная стена.
На стеллаже у этой стены лежит свернутый пополам Вестник Велемира Хлебникова, номер 1, Москва, февраль 1922. Это, конечно, ксерокопия. Оригинал хранится в Норвегии. На обороте латинскими буквами написан адрес: Норвегия, Христиания, Фритиофу Нансену. Наклеены две пропечатанные марки. На одной из них можно разобрать дату: 20.4.22. Русскими буквами начертано: Дозволено цензурой 3.4.22 и стоит номер 592. По-видимому, это дозволение относится к содержанию Вестника, а не к факту отправки его в Христианию, ныне Осло. В заглавии имя Хлебникова написано через «е», однако внутри, в самом тексте, рукой поэта поставлена подпись: «Верно: Велимир Первый. Наверху над текстом Вестника надпись по-русски: «Председателю Земного Шара Фритиофу Нансену. Русские председатели онаго П. Митурич, В. Хлебников». Стоит дата выхода в свет: 30.1.1922. Содержание Вестника довольно известно, отмечу лишь, что Третий Приказ с формулами обращения планет называется не Приказ, а Криказ.
Там же второй номер журнала ЛЕФ, который издавал Владимир Маяковский в 1923 году. В нём напечатана поэма Хлебникова «Ладомир» и стихи многих поэтов того времени к Первому Мая. В разделе «Теория» есть любопытная статья Б. Арватова «Речетворчество» и рассуждение Осипа Брика о профессоре А. А. Сидорове под названием «Услужливый эстет». Ну и другие статьи тоже не лишены любопытства. В рецензии на книгу Владислава Ходасевича «Тяжелая лира» написано, например: «Нет смысла доказывать, что дурно-рифмованным недомоганиям г. Ходасевича не помогут никакие мягкие припарки».
На другой полке стоит под стеклом пригласительный билет на прощальный вечер Алеши Хвостенко, который проходил несколько лет назад в Санкт-Петербурге, работы Васи Аземши. На левой стороне надпись: «Хвост выставляет прощальный чайник вина». Буква «о» в первом слове оформлена как верхушка крышечки чайника, буква «ч» как носик, буква «к» как ручка всё того же чайника. Так что вся надпись выглядит как чайник. На правой стороне сидит сам Хвост в виде черного контура, нога на ногу, и курит. Рядом его гитара.
На торце стеллажа висит латунное распятие в форме ромба с просверленными по углам дырами для прикрепления к могильному кресту. В 1972 году я шел как-то летом по городу Владимиру и встретил мальчика лет восьми, который неистово тер мелом это распятие, стараясь счистить патину. «Осторожней, а то испортишь», – сказал я и проследовал своей дорогой. Через какое-то время мальчик догнал меня и отдал изделие.
Пониже располагается тарелка с синей птицей. Думали, что это птица дронт. Рисунков дронта у меня много: гравюра из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, открытка с известной картиной Савери, яркое изображение в бестиарии Алоиса Цетла, две фотографии – в профиль и в фас – модели дронта из коричневатого пуха страусихи, которая была выставлена в местной аптеке, в ее окне. Я считаю дронта геральдической птицей российской интеллигенции, поэтому при случае собираю изображения. Но на тарелке не дронт, а птица феникс.
Рядом возвышается тонкий табурет, а на табурете прозрачный ящик величиною в локоть. В нём скульптура голой толстой красавицы с поднятыми вверх руками, которую сделала Ира Рейхваргер из ваты и капронового чулка. Она в свое время изготовила много таких и похожих статуй. Иные из них групповые, есть даже целая свадьба: жених, невеста, родители жениха и невесты, их родители, младшие братья и сестры и прочие. Всю эту группу – двадцать фигур – взяли в Иерусалимский музей. А сама Ира недавно скончалась.
Рядом с моим ложем, ближе к углу, стоит бамбуковый стакан для карандашей. На нём изображен куст бамбука. Хотя он и треснутый, я им дорожу, ибо подарил мне его от всей души Леонид Ентин.
Фотография: Глория Волохонски, 2007
Илья Кукуй: НЕКОТОРЫЕ КАРТИНЫ ИЗ МОЕЙ ПАМЯТИ
На то, чтобы написать эти несколько строк, у меня ушло больше года. Очень неудобно перед Гали-Даной и Некодом… Стоило ли вообще ждать?
Сначала я надеялся найти фотографии квартиры Анри в Тюбингене – но тщетно. Впрочем, может быть, так даже лучше.
Поскольку писать за компьютером я не умею – могу только записывать уже сложившееся в голове, – я долго ждал, пока ко мне придет какая-то неординарная мысль, хотя бы одна. Но тоже напрасно.
Может быть, дело в том, что я почти не помню этого дома Анри. Когда мы познакомились в Тюбингене в 1997 году, совершенно случайно, то я до него не дошел. В следующий раз, по-моему, я был у них с Инной в 2002 году, с женой и только что родившейся дочкой. Дина играла с отцом двойной концерт Бартока в Пфорцхайме недалеко от Тюбингена, недавно я пересматривал эту запись… На следующий день мы поехали к Анри. Помню, как Кора спала в коляске, пока мы шли по направлению к дому. Вижу дом со стороны улицы, как к нам навстречу идет дочь Анри Ксения. Отдельными вспышками перед глазами встает гостиная. Мы сидим за столом, а напротив Анри – по-моему, в тельняшке и меховой жилетке. Инна разливает чай.
Потом Анри довольно скоро позвонил и попросил приехать: они решили переезжать в Рексинген, где у сына Анри Эдена уже был дом, и Анри разгружал перед переездом библиотеку. Ведь и в Тюбинген Анри приехал в 1995 году к Эдену, когда радиостанция «Свобода», на которой Анри работал редактором, переехала из Мюнхена в Прагу и квартиру стало невозможно оплачивать. Эден тогда учился в Тюбингене палеонтологии, и город Анри очень понравился (он действительно прекрасен). Как выяснилось, переезд в 2004 году был удачей: через два года с Анри в Рексингене случился инсульт, и соседство детей и внуков оказалось большой помощью.
Но тогда этого никто, конечно, не знал. Я увез от Анри полный багажник книг, в том числе аудио-диски с его чтением. Уже после смерти Анри из них и записей, имевшихся у Лени Федорова, удалось сделать звучащий архив на «Арзамасе». Многие из оставшихся книг Анри описал в «Некоторых картинах из моей комнаты».
Книжную полку Анри я помню очень хорошо. А больше почти ничего. Может быть, картины в памяти оказались вытеснены публикуемым ниже текстом. Думаю, Анри написал его, когда понял, что из Тюбингена придется уехать. Говорят, что у его поколения великолепная память на стихи была вызвана в том числе тем, что их было безопаснее запоминать, чем хранить дома. Но, конечно, дело не в безопасности или желании всё свое носить с собой, а в понимании, что слово сильнее памяти. Собственно, оно и есть память. Название книги, в которую вошел этот рассказ Анри, – «Воспоминания о давно позабытом».



















































Тина Синдаловски: ВРЕМЯ СВЕТА
Восьмидесятисемилетний человек, его комната, Polaroid SX-70 на штативе в углу и окно. Окно, с видом на площадь Вашингтона, на огромный бурлящий город, на тысячи людей и автомобилей — вечный шум. Но шум не проникает в то, что создаёт Андре Кертеш. Его искусство — фотография — безмолвно. При рождении оно было наречено светописью.
Свет и утекающее время стали соавторами Кертеша при создании потрясающего цикла «Из моего окна». Серия фоторабот посвящена памяти жены мастера, Элизабет, умершей в 1979 году.
На границе двух миров, личного и внешнего свою охранную миссию несёт окно. Пропуская изменчивый свет полностью и приглушая гул Нью-Йорка, оно позволяет главным героям фотографий чувствовать себя максимально расковано. Объекты из бесцветного и тонированного стекла то пропускают через себя солнце, томно изгибаясь и одаривая пространство рефлексами, то напротив, блокируют свет, демонстрируя свои тягучие силуэты, подобно персонажам театра теней, играют пьесу о любви. Художник наблюдает, как по мере движения времени меняется угол, интенсивность и цвет освещения, изучает жизнь стеклянных предметов, позволяя им вести себя как угодно и лишь фиксируя момент. На паре фотографий время вдруг материализуется в песочных часах, родственниках стеклянных бокалов с изящным женским торсом, но вскоре опять растворяется, оставаясь за кадром.
Движение огромной планеты вокруг далёкой звезды дарит окну свет. Смешение песка, крупиц металлов и огня даёт человеку стекло, из которого он делает множество полезных и прекрасных вещей, среди которых и хитрые оптические линзы, они смотрят на мир из фотокамер и бесстрастно фиксируют момент.
Бесстрастно до тех пор, пока восьмидесятисемилетний человек, в своей охоте за солнцем забывающий поесть, но всегда помнящий Элизабет, не нажмёт кнопку камеры, приказав молекулам вещества, фотонам света и секундам вечности замереть на снимке, стать искусством и остаться навсегда.
Тель-Авив
2022
2012 г. запись из дневника
Что меня окружает сейчас: два амадина, мольберт, шкаф, зеркало, синяя кровать, сломанная лампа, косой черный стол, холодное сквозящее стекло, канадская вышивка — лошадь и тигр, старый красный ковер, тибетский колокольчик, монгольский колокольчик, глиняный будда, болгарская дудка, советские открытки, банановая кожура, сломанный принтер, велосипед, три халата, сумка жены, из которой выпали вдруг: 1. тушь ея, 2. паспорт ея, пустая амадиновая клетка, сотни разных неинтересных книг, десять неинтересных фотоальбомов, картина с якутским пейзажем, стопка карандашных рисунков, синяя подушка, из всего этого выделим черный косой стол, с которой свисает уже упомянутая сломанная лампа, на котором стоят две пустые чашки кофе, одна пустая чашка зеленого чая, одна пустая бутылка с неким энергетическим напитком, одна полупустая коробка с печеньем, одна белая пустая тарелка, один замкнутый в себе ноутбук, один не используемый монитор, одна статуэтка с негритянскими любовниками, подаренная некогда жене, один журнал «Переход», стопка невнятных листков А4, и следующие книги: «Ролан Барт, SZ», «Велимир Хлебников, Проза», «Лу Саломэ, Эротика», «Екатерина Завершнева, Высотка», «Герман Гессе, Собрание», «Эрих Фромм, Анатомия человеческой деструктивности», «Гете, Фауст». Так же нельзя не упомянуть открытку с портретом Шарлотты Генсбур и будильник, собранный на заказ одним классическим столетним часовщиком, которых, в общем-то, не бывает в природе, существование которых, в общем-то, суть чудо.
Что меня окружало раньше: Не помню.
Что меня будет окружать затем: Не знаю.
Кто я сейчас: Никто.
Кем я был раньше: Никем.
Кем я буду затем: Возможно, никем.
Каковы мои жизненные цели: Потрясение.
Возможно ли потрясение: Нет.