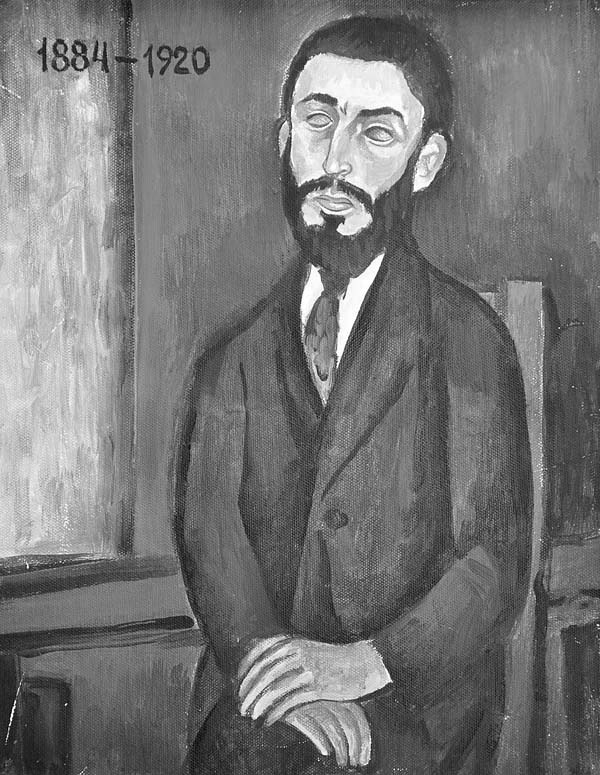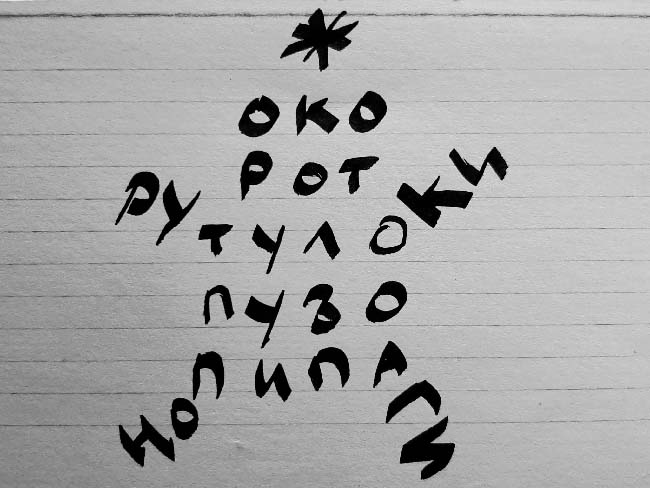
Archive for the ‘ДВОЕТОЧИЕ: 43’ Category
Пётр Шмугляков: *
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 13.03.2025 at 13:26Юрий Рыдкин: ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЛИЦА
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:14















...я конституирую себя в процессе «позирования», я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ...
Ролан Барт
А что, если ты позируешь самому себе? Можешь ли ты сам для себя стать причиной позирования? Достаточно ли ты любим сам собою, чтобы удостоиться этого позирования? В полной ли мере ты существуешь, есть ли кому позировать? А что, если самофотографирование производится вслепую, когда глаза Я-фотографа и Я-натурщика отведены или чем-то закрыты? Кто из этих двух Я более или менее Другой? И в какой момент они сливаются воедино? В момент щелчка?
Фотография даёт возможность взглянуть на себя со стороны и ужаснуться. Автопортрет даёт возможность взглянуть на себя со стороны и ужаснуться дважды, ведь ты ещё и сам это запечатлел. Таймерное селфи является своего рода артовой терапией, визуальными ответами на болезненные вопросы: а таким ли я хотел себя видеть?, а что со мной стало?, а как я до такого дошёл?, а кто меня до такого довёл? Фотокнопка есть точка бифуркации, после нажатия которой многое или что-то меняется. Селфический щелчок — это звуковая констатация чуть ли не нарциссической влюблённости в самого себя, когда ты за мгновение до нажатия понимаешь, что твоё отражение в экране устраивает тебя. Казалось бы, автоснимок есть всего лишь символическое выражение собственного бэкграунда посредством разноцветных пикселей, упорядоченных определённым образом, но не только. «Подразумеваемые лица» требовали делать половину таймерных селфи вслепую. Задача трудная, поскольку после нажатия фотокнопки нужно было за 15 секунд повернуться спиной к объективу, сидя в инвалидном кресле, или чем-то закрыть глаза (кроссовки в зубах, кастрюля на лице, майка/штора/мешок на голове), ровно уместиться в рамке кадра, занять при этом эмоционально нагруженную позицию и окаменеть от объективного взгляда горгоны по имени гаджет. Понадобилось много дублей, но они стоили того, чтобы в очередной раз показать независимость эмоции от выражения лица, многоликости от мимики, воображаемого от видимого, света от тьмы. Традиционно в автопортретах главная роль отводится голове. И можно ли в таком случае считать полноценным автопортретом изображение, где в центре внимания спина, живот, шея? Можно ли считать автопортретом изображение одной только ноги? Думаю, да, поскольку человек состоит и из «второстепенных» частей тела, которые в качестве основных фотообъектов как будто бы обретают суверенитет, пусть и статический. Роль предметов интерьера в кадре тоже переоценить невозможно. Иной раз она главная, когда какая-нибудь неодушевлённая вещица перетягивает одеяло на себя, высасывая из центрального субъекта всю его витальность. Мой же замкнутый и задыхающийся фотосубъект является визуальным криком из наждачного мрака настоящего, которое точнее определяется как ад. И я уже не фотографирую самого себя, а лишь фиксирую то, что от меня осталось, но и этого хватает для надежды, ибо сейчас остаток больше целого.
Стивен Эллис, Гали-Дана Зингер: ТРИ ДВОЙНЫХ АВТОПОРТРЕТА
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:06ФРАГМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ‘IN REFUSAL OF CERTAIN THINGS AND ACCEPTANCE OF UNCERTAIN ONES’
[115]
THE ART OF VERBAL AUTO-REPRESENTATION THROUGH THE PRISM OF INTERMEDIALITY
Always often soon enough, last was the most willing fit decided.
Never seldom late inadequately, first was the least reluctant unfit undecided.
Clearly, it is the simple matter of orange custard in a clear glass bowl on the boardwalk reflecting small blue boats in the harbor.
Still life turns into landscape and vice versa, as befits a true self-portrait.
Poetry is simply what's taken in or left over, gone in either case into linguistic waste bins as what will remind us of 'later'
which is just one letter away from 'relate'
as the borrowed pitch so aptly on a florists wrists in outer bliss of full acceptance
[115]
ИСКУССТВО ВЕРБАЛЬНОЙ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ
Всегда часто довольно скоро, последнее оказалось самым подходящим решившемуся.
Никогда редко недостаточно поздно, первое было наименее пригодным нерешённому.
Очевидно, это просто вопрос апельсинового десерта в прозрачной стеклянной креманке на причале, отражающей голубые ялики в бухте.
Натюрморт превращается в пейзаж и наоборот, как и пристало истинному автопортрету.
Поэзия — это попросту воспринятое или отброшенное, в любом случае, канувшее в лингвистические мусорные баки как то, что напомнит нам о «дальше»,
находящемся лишь на букву дальше от слова «идеал»,
как заимствованная интонация, столь уместная на запястьях флористов в показном блаженстве полного принятия
[117]
PERSONAL NARRATIVE THROUGH THE MEDIA OF FOUR ELEMENTS
Yesterday, the day before tomorrow, the water is at rest against the side of the glass, no tidal movement, no change yet doctor.
Yet the glass slowly lets itself go, it envies the water and feels embarrassed, fearing that someone might notice.
Like a leisurely return to a world, which lets itself go where? The glass contains itself, is it embarrassed for feeling 'in disguise?'
.
Usually, embarrassment has no reason at all and doesn't need any. That is a feeling in itself, though the sudden wish to go out of itself may sometimes cause it.
Very like how my life-long eating problem began, with tapioca, too subtle to taste, to vague to apprehend as a substance, etc.
Anything, which is like anything else, becomes a detail in Arcimboldo's giant self-portrait.
Always keep the secret vow of a forbidden penny under your tongue to keep yourself from eating
ЛИЧНЫЙ НАРРАТИВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ
Вчера, за день до завтра, вода пребывает в покое у стенки стакана, ни приливов, ни изменений пока что, доктор.
И всё же стекло медленно отступает, оно завидует воде и смущено, опасаясь, что кто-нибудь это заметит.
Как неспешное возвращение в мир, которое отступает куда? Стекло сдерживается, стесняясь того, что ощущает себя "под маской"?
Обычно у смущения нет причин, и ему не нужны причины. Это «чувство в себе», хотя внезапное желание вырваться из себя тоже иногда может его вызвать.
Похоже на то, как началась моя пожизненная проблема с едой, с тапиоки — слишком тонкой на вкус, слишком неопределенной, чтобы воспринять её как субстанцию, и так далее.
Всё на что-то похожее становится деталью в гигантском автопортрете Арчимбольдо.
Всегда храни тайную клятву о запретной монетке под языком, чтоб воздержаться от пищи.
[119]
MAKING FACES IN FRONT OF A TARNISHED PAST
Barbarians cannot reach this frontier
dividing and connecting heaven and earth
I pass before the looking glass, well past 30, hoping to recall what I missed in the poverty of having to come home
It's impossible to miss if you don't aim
or look, but I abandon no instant when in the making.
Aren't we arrows shot by someone else? How would we know our target until we reach it?
Yes. Mother is always looking for my beauty in her make-up mirror
СТРОЯ РОЖИ ПЕРЕД ПОТУСКНЕВШИМ ПРОШЛЫМ
Варварам не достичь этого рубежа,
разделяющего и соединяющего небо и землю.
Я прохожу мимо зеркала – мне далеко за тридцать –, надеясь вспомнить, где я дал маху в убожестве вынужденного возвращения домой
Невозможно промахнуться, если не целишься
и не смотришь, но в процессе я не отказываюсь ни от единого мгновения.
Разве мы не стрелы, выпущенные кем-то другим? Как нам узнать мишень, пока её не достигнем?
Да. Мать всегда высматривает мою красоту в своём зеркальце
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: ГАЛИ-ДАНА ЗИНГЕР
Сергей Лейбград: КОГДА ЗАКРЫВАЕШЬ ГЛАЗА
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:04***
медуза ночь омытая слезою
заложники в золе у мавзолея
я русский дух я вирус мезозоя
я сторож тель-авивского музея
я справа фонарëм пишу налево
встречая ротозеев у порога
луна кривым уткнулась рогом в небо
три детских трупа из кривого рога
***
кричал от боли
плакал от безысходности
имел мужество
быть слабым
***
я умираю после девяти часов утра
ах если б знали вы какая мука
из мёртвых каждый вечер воскресать
да знаем знаем говорите вы
нет повода для жизни в новостях
изгнанники погрязшие в грехах
и жертвы из семейства палачей
заложники в тоннелях умирают
и пейджеры кровавые в руках
и пепперштейн в ногах у кости эрнста
холодные каналы амстердама
и тлеющие кости в холокосте
и тлеющие кости в украинских
степях
скажи когда же выйдут дети
из подземелий харьковских на свет
когда же я вернусь в свою россию
в страну неизлечимой дедовщины
сентиментальной мерзости величья
и совести развратной без стыда
***
тысяча и одна ночь
от тюрьмы и от сумы
от сум и кривого рога
не зарекаешься
терпеть новости всё невозможней
чувствуешь всеобщее согласие
на убийство украины
оторвавшийся трамп
взрывы раздаются изнутри твоей головы
и площадь похищенных
каждую ночь
и с детьми ты видишься
как перед последним отъездом
а когда закрываешь глаза
ей кажется что это уже не ты
и стихи твои дурацкие
гипертонические стихи
панические атаки
и все стихи
и всё искусство вообще
и уехать из россии не можешь
и в израиле как призрак
но вот дышишь ещё зачем-то
и помнишь всё
и стыдно
стыдно
ты плакал так
когда тебе было четыре года
а потом никогда не плакал
и запрещают
работать ночью и курить
а днём тебе здесь быть некем
но ты всё равно ещё дышишь
***
уехавшие
оставшиеся
обмененные
а где я
почему меня
нигде нет
ты обменял себя на самого себя
***
пел полад бюльбюль оглы
голос этого солиста
лился звонко тонко чисто
обмочил он все углы
часть советского народа
наша дружная семья
мне всего четыре года
мама до небытия
***
ванька-встанька охлобыстин
боль похожая на срам
сам себе я ненавистен
с хрустом с горем пополам
по сухим огромным листьям
я хожу по мёртвым листьям
как по мёртвым языкам
тру костяшками глазницы
заклинаю позабудь
я усну и мне приснится
отчего мне не уснуть
***
устал
устал
от войны
от этих
разрушенных городов
от этих
оторванных голов
от этих
расстрелянных военнопленных
от этих
изнасилованных детей
устал
ну иди отдохни
конечно
тебе надо отдохнуть
и пока ты спишь
ещё одним городом
станет меньше
и пока ты спишь
мёртвым сном
главное знай
всё что ты сейчас делаешь
очень важно
очень важно
для будущего
которого
никогда не будет
очень важно
для прошлого
которого
никогда не было
***
когда в тебе я узнаю тебя
и снова агузарова звенит
в ушах
про маленькую смерть
и где-то там афганская война
и папа мне рассказывает снова
как он с сестрой и с мамой из одессы
в грузовике под бомбами уехал
и все пропали без вести
и все
кричат мне
ну когда ж ты пропадёшь
ну пропади ты пропадом
пожалуйста
***
нет больше ничего моего
кроме
непроизнесённых слов
***
приговорённый дышать между строк
я отмотаю потешный свой срок
жизнь до кости размотаю
встроюсь в усталую стаю
вещи забыли свои имена
родина тонет в уродстве
мачеха чушка родная война
песня о вечном сиротстве
как в невесомости будет висеть
тела разорванный свёрток
русский язык социальная сеть
где воскресают из мёртвых
***
пожалейте меня
пожалейте меня
френды
украинские друзья
под российскими бомбами
пожалейте меня
пожалейте меня
родственники и друзья заложников
приносящие фотографии
убитых и выживших
мёртвых и живых
ни живых ни мёртвых
пожалейте меня
релоканта
подайте на пропитание
помогите чем можете
лайками
репостами
донатами
Таня Скарынкина: НЕ РОДНЯ
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 01:01Я НЕ ХОЧУ ОБРАТНО В ЛЕС
Я не хочу
обратно в лес в брусничник
в можжевеловые лапы
а впрочем
история сама себя расскажет
как захочет
как начиналось всё
без мамы и без папы
в человеческих обличьях
их никогда и не было
всё они врут
а было всё совсем наоборот.
МАЛЕНЬКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Я попросила
молоко и кефир
продавщица молча сняла с полки
две бутылки водки
неужели мне бессознательно хотелось водки
и продавщица догадалась о хотении
но я не хотела почти совсем
мне нужны были только молоко и кефир
или меня в другую реальность перенесло
где водку называют кефиром и молоком
или это день сегодня такой
когда водку подают тем кто просит кефир и молоко
много разного в голове пронеслось
пока она снимала водку с полки
и отнесла на другую кассу
которая от полки с водкой подальше
а мне дала
именно то что я просила
пакет молока
и пакет кефира.
КРАСНЫЕ СТАКАНЧИКИ
Солнце августа слева
на какое-то время
отрываюсь от написанья стихов
и поворачиваю к нему лицо
позагорала немного
лицом из кухни
до чего же приятно
кузнечики лезут в самые уши
если закрыть глаза
лучи в самые веки пекут до красных
скорее даже
гранатовых кругов
я вижу вдруг под кругами
как на море
с белой полоской солёного прибоя
нам с Леной Варвинской сестрой покупают
стаканчики «Для холодных напитков»
тёмно-багряного цвета
как эти круги
внутри глаз
мы ссорились из-за них постоянно где чей
покуда не подписали стаканчики
точней нацарапал дядя Митя Варвинский
ножом перочинным инициалы Л. и Т.
у нас долго хранился стаканчик Т.
а у Лены Варвинской с цепкой хваткой
наверняка до сих пор он есть
стаканчик Л.
СБИТЫЙ ЁЖ
Я подняла ежа с проезжей части
где он недавно весело бежал
его насмерть ударило
но не раздавило
я взяла ежа за передние лапки
и унесла прочь с дороги
ёж потешно болтался на весу
что сжималось сердце
ёж был вполне себе цел
и даже казалось слегка дышал
его глазки блестели
под фонарём как живые
но ничего не видели
его блестящий нос
не различал запахи летние
а запахов порхало множество вокруг нас
где-то постригли траву
откуда-то тянулись вяленые флоксы
а ёжик болтался легко на весу
сбитый автомобилем неизвестным
и всё казалось
что пальцы мне ответно пожмут
его прохладные пальчики
не пожали
я положила ежа
в траву у дома
где жил когда-то фотограф
по прозвищу Хона
по фамилии Субоч
и быстро пошла
оттуда прочь
по улице Иванова.
НЕ ОТМЕЧАЮ
Мама умерла
накануне Рождества
с тех пор я католические праздники
не отмечаю
оплатку*
что купила по просьбе мамы в костёле
я так и не съела
в горло она такая низкокалорийная с виду не полезла
и яйца не крашу на Велька́ноц**
для мамы мне было важно
покрасить их луковой шелухой
а для себя не важно
для мамы было ценно
чтобы в это утро я зашла к ней со свянцонкой***
и сказала традиционное
«Хрыстус з мартвых встал»
а она бы ответила
с многолетней готовностью
«Правдзиво з мартвых по́встал»
и мы бы начали празднично завтракать
а так как в маминой комнате
мамы больше нет
то Исус из мёртвых встаёт
в каких-то других местах для других людей.
* пресная вафелька с Вифлеемской сценкой.
** Пасха по-польски.
*** освящённые в костёле яйцо с хлебом и солью.
ПОГРУЖЕНИЕ В ЗАБЫТОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Это кажется с любовью было связано
но особенно мне нечего рассказывать
почти ничего не помню
вроде как стоим по щиколотку в песке
по колено в дикой траве
по пояс в воде
со стороны себя всё хуже видим
по шею в малиннике
с головой в тумане.
ОПАСНАЯ ИСТОРИЯ
Каждый мимо кто идёт
все любые люди
целый мир в себе несёт
на дрожащем блюде
я бреду в толпе как все
с собственным подносом
он невидимый совсем
но он есть у меня свой
на нём студень самодельный
от малейшего движенья
подползающий тихонько
к невысокой кромке
и у всех вокруг меня
куда ни гляну я
та же простая
и опасная история.
НЕ РОДНЯ
Мои стихи мне не родня
не друзья не одноклассники
не соседи даже не земляки
прости господи
тем более
не ухажёры
и уж ежу ясно
не предметы страсти
не пассажиры сердца моего
не вагоновожатые
множественных
трамвайчиков души моей
мои стихи крошечки-хаврошечки
в одно ухо влезают
из другого вылезают
прихорашиваются
мои стихи
того-этого
пришли-ушли
привет-пока.
ОДНА УЧИТЕЛЬНИЦА
Давно не встречала одну школьную учительницу
одну из любимых самых остроумных учительниц
но и она туда же:
– Чем занимаешься?
– Как обычно стихи пишу.
Остроумная учительница смеётся от души:
– Это понятно. Работаешь-то кем?
– Я же стихи сочиняю. Никем.
Мне некогда совсем.
Смеётся учительница. Думает, что шучу я.
– Я серьёзно. Что ты серьёзно делаешь?
– Ем. Сплю. По земле ногами хожу, как заводная игрушка.
Учительница расхохоталась на всю катушку
на прощание дала свой номер
чтобы ещё посмеяться в другой какой-нибудь раз.
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Для меня
очень важна
во все времена
чистая посуда
мытая голова
книга интересная
на прикроватном стулике
вот она может
быть грязна.
ХОЛМЫ
Как мы
взбегали на холмы
и вниз
бежали с них
и снова вверх
кто эти мы
не вспомнить
ни мне ни тебе
но ласковый ветер
забыть нельзя
и шелковистый мох
на холмах
какое сладкое воспоминанье
с привкусом горьковато-дымным
до того давнее что непонятно
откуда память раздобыла его.
ДВА ИДЕАЛА
Бабушка Мария и Будда Гаутама
два несокрушимых недостижимых идеала
разница у них лишь в том что я не знала
Будду а бабуля
мне жарила блины
из картофельной муки
ни к чему не принуждала
голос никогда не повышала
но и не нежничала
чай травяной заваривала
в литровой кружке
и когда я вставала
её уже не было
чай остывал
блины были сухие по краям
Ом мани падме хум!*.
*О жемчужина, сияющая в цветке лотоса! – буддийская мантра сострадания.
Нурит Зархи: А ТЫ?
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 00:57БУЛЬВАР ХеН*
В храмовых куполах бульвара будут виться утренние птицы.
Из кубков их гортаней каплют чужие жизни.
Воздушные корни сновидят землю,
нежно-румяный рассвет слетает с ночного сари.
Ворон кричит из спутанной шевелюры,
дыбится свет, убегая из плена ночи,
рыжее солнце зреет средь веток,
и блеснет невзначай капля Индии на лбу неба.
Молчи, ворон. Ты не носишь одежды пурпура и бузины,
И все же, без мужа, как те рыжие жёны,
взошла ли я на костёр или я свободна?
Я? Мне бы лучше отчаяться чаем.
*Бульвар ХеН – сокращенное название бульвара Хаима-Нахмана Бялика
АТЛАНТА
Допустим, я бы решила поселиться в этой гостинице.
Отражаться в пленных зеркалах, когда
в отталкивающем тишину пространстве солнце освещает
яблоки, похожие на восковые муляжи, полк чашек на параде.
Чеканными шагами – дверь за дверью –
по коридору сна других, тех, что за стенами.
Теперь кран или часы говорят на языке того,
от кого я предпочитаю укрыться в гостинице.
Зубная щётка и чайник прикидываются роднёй,
оставляют меня читать, пока не побелеют
окна за экраном, пока автомобили
не проснутся раньше чаек.
Ясно, что это я настаиваю на том,
чтобы забрать себя к себе домой,
там я и я усядемся на чемоданах
в татуировках всех обетов мира.
БЕСПОКОЙСТВО КРЫЛАТЫХ ТВАРЕЙ
Что-то падает во тьме,
может, яблоко, камень, глаз прозревает.
Это миг моего я, заслоняющий
со стороны за веками другую сторону.
Опыт не сможет описать её,
да и половина моих слов, никогда не бывавших там.
Мне нужны были бы иные краски,
дары не приглашённой Феи Воздуха, чтобы я сумела
перекрасить чёрных лебедей, оседлавших шторм.
Каждый день усиливает беспокойство крылатых тварей,
тяжело парящих и гомонящих за чужими полями.
Видит ли кто-нибудь сверху свидетельство их принадлежности?
СУД
Прикалываю ракушку вместо сердца,
отправляюсь на свидание с миром.
Я потребовала, чтобы суд решил,
кто утаил пропавшего.
Чёрные годы свидетельствовали против меня,
похоже, я повредила участок времени,
похоже, я его продырявила, я – осуждённый.
Облачили меня в белую шинель.
Вердикт: я должна вернуться внутрь,
умыть лицо в мотыльковой реке,
но я годами раскрывалась как спираль
под твоим сердцем.
Судьи и ангелы, и – wow!
только поглядите, как я опять стреляю
в пустое сердце мира,
в ничтожный плод познания.
ИСКУШЕНИЕ
Моя голова привязана собственными веревками к ночи,
будто камень, уставший от закона падения.
Брошенное птичье гнездо у меня на столе
вспыхивает в свете жёлтого карандаша,
выдаёт угасание голосов меж страниц.
Материк комнаты разрывается – остров подо мной
расстилается допотопной руиной –
своей важностью искушает меня
продолжать за столом работу воздуха
в то самое утро, когда я надеялась встретить этот день.
ЛЕВАНТ
Я пристрастилась к древним городам,
Узким переулкам, домам в золотых отголосках стен.
В небесном колоколе с запада на восток переворачиваются
птичьи полосы. Башня сбрасывает свою материальность.
В трещине между забвением и вечером –
сонные деревеньки в их рассыпающемся бытии.
Ты говоришь: город мёртвых –
девушки, женщины, мужчины.
Они присутствуют здесь не меньше, чем живые.
Если стану играть в Кассандру, окажусь права,
треснувшее окно на ветру.
Ради чего я всегда так опасалась
доедать чёрную похлебку до самого дна?
Кому какое дело, если я выберу
толстые романы, торты со сливками, деревенскую музыку.
ЗНАК
Погляди, старость отметила меня.
И как бы я ни старалась,
я шествую под её свадебным балдахином.
Этот знак, конечно же, напоминает тебе
известную звезду.
Никто не преследует меня,
кроме тех, кто думает, возможно, справедливо,
что мне было достаточно отмеряно.
Но живая нить взбирается вверх
по стволам деревьев, по тростинкам бамбука,
продолжает пульсировать во мне,
проходит под мостом прошлого и дальше,
через висячие сады и до пилорам
небоскрёбов. Эти никому не принадлежат,
хотя порой подталкивают меня стащить
пшеничное зёрнышко из общей кучи
или украдкой даже каплю детского пюре.
Эта жизнь, по ошибке носящая моё имя,
принадлежит лесам,
холмам, пустыне. И если
соберётся меня выполоть, — испугаюсь.
Не смогу защищаться
больше, чем уголёк на ветру.
Вот твоя работа:
эти принадлежат всем,
никому и тебе.
МОЖЕТ, СПАРТА
Как всегда, когда
не хочется откровенничать,
скажу вслух:
я родилась не в том городе.
Как мне удалось это скрыть?
В хоре я пела грубым голосом.
Красноармейские песни заглушали сердечный трепет,
разрисованные черепами флаги
я поднимала в руке и держала по ветру,
а ненавистные спортивные упражнения
выполняла только из страха.
Если кто-то меня подозревал,
спасала речь,
мои блестящие наряды
и то, как, сидя на скале,
я расчёсывала длинные пряди,
и в сердце своём
опасалась, пока не вступала в борьбу –
глухая ко всему, но не от храбрости, а от ужаса.
Никогда не носила
на груди орден,
боясь, что он соблазнит
других – а то и меня самоё –
разоблачить великую ложь.
Всегда повышала голос,
старательно произносила
лишь однозначное –
как делают молодые.
Так шла моя жизнь от страха к страху,
пока не настало сегодня.
Граждане, теперь, когда карты открыты,
я прошу прощения –
кажется, моя слабость
стала чумой для всех вас.
Я знаю: хуже, чем быть –
это не раскрыться.
Мне следовало знать. И, сказать по правде, я знала.
А вам следовало
сбросить меня со скалы ещё при рождении.
И пусть солнце стоит
на краю истории,
и язык давно осквернён,
я всё же прошу у вас,
товарищи по человеческому роду:
простите.
ЖЕНЩИНА С ПАЛОЧКОЙ
Кто эта женщина с палочкой?
Возможно, это я –
замахиваюсь на время, хочу побить его.
Дочери мне говорят:
это цветущий жезл,
вырезанный из несгибаемости деревьев.
Откуда им знать, что я –
птица в «не»,
и даже за четырьмя стенами
дождя не исцелилась.
Это свидетельство. Ошибка
природы, мешающая
мне взлететь.
КРОЛИЧЬЯ НОРА
Я живу в кроличьей норе монотонности,
в клетке поэзии, построенной из китовых рёбер.
Не говорите мне, что это ледокол
или воздушный шар над тёмными чащами.
Я подозреваю, что поэзия меня использует,
заталкивает в эту чёрную дыру,
проецирует кино мне на веки,
ведёт меня по генетическим пейзажам,
делая вид, будто это триллеры.
Как существо без глаз —
обычный крот проницательней, чем она —
роется в моей жажде невидимых городов,
Гимильони или Формонизии,
запасается загранпаспортами с истёкшим сроком
и подделывает мою подпись.
Никита Левитский: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЗРАИЛЬ
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 00:3918 января
Я в Стамбуле. Что за жизнь я живу? Построил один нелепый план и он разбился
нелепо об нелепость чужих систем: билет из Турции оказался попросту
несуществующим. И теперь я здесь, а продолжать путь пока нет ни денег, ни сил.
Стамбул удивительный город. Такого величественного поселения я не видел никогда.
Москва рядом с ним — форпост варваров, набитый чужим награбленным хламом.
Стамбул растёт из себя, питается морскими дорогами, кланяется только волнам.
По этому городу не станешь скучать, как по милому Еревану. В нём нет никакой
душевности. Но, на мой вкус, в нём есть нечто большее — дух. И хоть я всегда буду
скучать по Еревану, я хочу познать Стамбул. И я хочу его гулкий зов.
Перейти этот город от края до края невозможно. На это потребовались бы дни. Он — рынок размером с море. Ты можешь идти и идти несколько часов и так и не покинуть
район приправ и специй.
На вкус он как горький и тëмный мёд. Я живу в ночлежке для русских эмигрантов.
Нахожу дверь в свой подъезд по дырке от пули: за несколько дней до моего приезда в
нашем переулке была перестрелка, хотя, кажется никто не пострадал. По дороге я
встречаюсь глазами с бойцовыми петухами, и, проникнувшись уважением к
обречённым убить друг друга на человечью потеху зверям, уже даже подумываю
посетить петушачьи бои. Не ради веселья, конечно. Выразить почтение непреклонной
стихии, стравливающей народы и виды просто так, из стремления к смешению крови.
Космический инцестуальный эрос. Братский внутриутробный каннибализм.
Позавчера я впервые добрался пешком до моря. За день до этого меня остановила
паническая атака, мой страх высоты (к морю в моём районе ведет только пешеходный
мост с низкими поручнями), который разыгрывается, когда я с дикого похмелья или
очень устал. Мне казалось, что я совсем не устал, но когда я забрался на мост, он
заходил из стороны в сторону под моими ногами и мне пришлось вернуться.
Мои отклики на русскоязычные вакансии становятся безумнее с каждым разом, а мои
ботинки дырявее с каждым днём. Вчера я шатался по району баров, но не мог
приложить ума, как стать частью этой фиесты потребления, так что снова отправился к
морю, что выглядело к тому часу как две жирные несмешиваемые тьмы. И я стоял, пил
вино, смотрел вперёд, в эти тьмы, плакал, и повторял вслух: "я отличаю тьму от тьмы.
Я отличаю тьму от тьмы".
Потом встретил в толпе старого знакомого из Нижнего Новгорода, он поздоровался
как-то небрежно, путая моё имя, и пошёл дальше, а я чуть не расплакался снова от
обиды и одиночества. Но одиночество в Стамбуле — это нечто особенное и почти
необходимое.
Денег у меня почти нет, так что я пью не больше бутылки вина в день. Так я веду
календарь. Вот четыре пустых бутылки на окне. Вот я перелистываю страницу — теперь
их пять. Далекий друг говорит: надеюсь ты ведëшь свой календарь так от хорошей
жизни. "От оптимальной" — сказал бы Лейбниц. А Делëз сказал бы, что я веду свой
календарь от следующего дня. Но сам я Спинозианец и считаю, что действовать нужно
исходя только из чувства вечности.
Я сижу в темноте, за окном поёт азан. Я прихлебываю из тусклой зелёной бутылки и
чувствую вечность. Сладкую, ароматную вечность. Чёрную, как знание. Густую, как
любовь. В чёрном верху летят белые чайки. Внизу кошки жадно смотрят на бойцовых
петухов, обречённых, но держащих наготове свои шпоры.
3 февраля
— Сексуальная любовь — это последствие насилия, учиненного над нами в детстве,
— говорит Вова, — это все знают, у кого есть мозги хоть что-то знать! — Он
затягивается ещё раз из трубки, сымпровизированной из пластиковой бутылки, смятой,
словно пожеванной морем, белой изнутри, как рассветная волна, и протягивает мне,
но я отказываюсь жестом руки — до сих пор не могу унять кашель.
Курит он как ест: жадно насыщаясь перед долгой дорогой через пустыню. Я так не
привык, обычно я курю размеренно, растягивая грамм на целый день, с ним же мы
скурили грамм за пятнадцать минут. Но это позволило уйти довольно далеко от
обычных маршрутов дня.
Вова бывший мент, он работал в следственном комитете, и что он там делал остаётся
для меня чем-то загадочным, несмотря на его скупые рассказы, а точнее даже
благодаря им. Сбежав из России он хотел попасть в Мексику, но там его шесть часов
допрашивали, а затем сунули в клетку к татуированным от пяток до кончиков век
табачного цвета людям, от близости которых, наверное, и ему было не по себе,
несмотря на его необоримую агрессию. Через сутки его отправили обратно в Стамбул,
где снова сунули в клетку, правда покомфортнее, а наутро наказали покинуть Турцию в
течение тридцати дней, так что вот он, сидит передо мной спустя несколько месяцев и
глаза его краснеют и слипаются, как моллюски, выброшенные на берег волной
тетрагидроканнабинола.
Утром он повёл меня есть хумус в сирийской забегаловке и мне показалось, что он
ведёт меня на свидание. Знакомый путь оккупировал рынок, выросший здесь пару
часов назад, изменивший переулки до неузнаваемости, перекрыв белые и голубые
двери лепестками палаток, рябящими стенами ковров, фарфоровой плиткой женского
белья. Вова бросался из стороны в сторону и был растерян, я — в восторге!
Вова — расист, как и все менты, которых я встречал до этого, так что я не говорю ему,
как мне нравятся цыганские дети, которыми полон Стамбул, как маленькими
пепельными джиннами. Когда я встретил первого цыганского мальчика в Стамбуле я
так сперва и подумал, что встретил джинна — настолько он был непроглядно
маленьким, он сидел, прислонившись к стене, сложив ноги лягушонком, и
уменьшившись до таких размеров, что можно было бы наступить на него, полностью
накрыть ботинком, если бы он все еще состоял из обычной материи, а не из волос
морского ветра и света, из которых состоял улыбающийся сам себе мальчик.
Единственное, что состояло из материи — это пачка одноразовых салфеток, которую
он якобы собирался продать.
Но нет, ещё одного джинна я встретил в первый же день, когда ехал бесконечной
надземкой из одной части Стамбула в другую: лёгкая, как ничто, девочка, несшая на
себе выцветшее платье, как зрачки, хрустальное и глубокое голубое с рыжиной платье,
подошла ко мне и коснулась моего колена. У меня не было ни куруши, но я бы лучше
отдал ей жизнь. Конечно, она касалась каждого, кто встречался ей на пути. Каждому
она дарила свою любовь. Когда она выходила из вагона, она становилась невидима
для нас, проходимцев. Она была видима только для своих. Джинны живут в Аду, по
крайней мере мы, проходимцы, принимаем его за Ад.
Маленькие джинны кувыркаются на перилах электропоезда, бросают своё тело на пол,
истошно смеясь. Ничто не мешает им, ничто не заботит их. Никто не может им
помешать. Мне любопытно только: раз они могут так свободно управлять размером
своего тела, почему они никогда не становятся большими?
С Вовой мы совершили ошибку — сперва сытно поели хумус с фалафелем и
соленьями в прекрасной, словно разбитой в арабской пустыне харчевне, и только
после этого пошли курить марихуану. Конечно, надо было сделать наоборот, и когда
меня накрыло первой волной гипнотического опьянения, в тот момент, когда время
обычно становится объемным и неочевидным, я подумал, как жаль, что из этой точки
нельзя прогуляться в другую сторону временной тропы, которую мы избрали в этот
день, но не передал свою мысль Вове, решив, что он не поймет. Как всегда и бывает,
каннабис высветил границы — я воочию увидел ледяной пролив, словно среди ночи со
дна поднялись сияющие электричеством медузы, обнажив расколотость казавшегося
единым города белым электротелесным ножом. Довольно быстро я вышел из его
комнаты и в одиночестве мне стало так спокойно, словно я остался один на один со
своим временем. Мне хорошо с моим временем, оно полно джиннов и морских
призраков, утонченных эмбрионов, ползающих по побережью, винных пауков с
багровыми панцирями, сплетающих мои губы.
Я иду к ночному пляжу, как почти каждую ночь, и под моими ногами хрустят
брошенные белые ракушки, словно обрушившийся витраж, который жизнь собирала из
себя тысячу лет в глубине этого моря и который встал безлюдной ночью времени над
городом и беззвучно рухнул. Никто не заметил этой роскошной катастрофы кроме
меня. Вдалеке черный горизонт прорезают редкие молнии. Время от времени
бросается вниз дождь. Я понятия не имею куда мне идти теперь. И ни звука вокруг. Нет
грома.
28 марта
Вере Воиновой
Посты надо писать среди ночи, пока все спят, и никто не читает, кроме других
полуночников, объединённых орденом бессонницы — теневым венцом. И кофе пить
тоже — ночью. И бродить вдоль моря хорошо — ночью.
Я сидел у мраморного моря чёрного мрамора и у меня на коленях уснула беременная
белая кошка, я посмотрел на руку, которой гладил её — и не признал за свою. Может
от голода. Приступ кантианства. Кант удивлялся: я шевелю рукой при помощи одной
своей воли, а ведь это так же непостижимо, как силой мысли сдвинуть Луну с её
орбиты! Вот моя рука. Я двигаю ей. По жилам бежит кровь. Солнце высоко, в самом
зените, и я, Антоний Блок, играю в шахматы со смертью.
А я всё время хожу не туда! (Впрочем, какая разница куда ходить, когда на другой
стороне — смерть?) Надо ходить в центр, основы шахматной стратегии — занимай
центр, развивай фигуры. А я хочу искать тайны на периферии, алмазные лабиринты в
норах (иначе кто зажжёт фонарь над мышиной норой?), песню в немых языках. Но в
самых тёмных кварталах, на самых пустых парковках и побережьях всё что,
оказывается, можно найти — это себя, уснувшего и пьяного под дождём. Но может и
надо найти себя. И мокрое пятно мочи под собой. И принять это как какой-то вонючий
рассвет. И Верино стихотворение:
Ст.
Над Тихим океаном хочешь
лететь, на прозрачном узоре
ковра верного, лагерного
слёта, в медовой
медовой панораме облаков, в синей
синей панаме-невидимке
Над Тихим океаном хочешь
лететь
с цветистым волчком
с волшебным
волчком
во сне и на яру
где. среди пчёл
где. среди пчёл и ос
на ярмарке чудес
в чужой голове
где. битые мечты
пчёлы
в чужом рою,
одна прячет другую
… и Верино стихотворение как двести лир, одолженные мне святой Терезой, я верну
их в воскресенье, я обязательно верну их в воскресенье маленькой Терезе, если никто
не помешает мне, никто не отвлечет меня, никого мне не станет вдруг жалко, и никто не
пожалеет меня, о, я в неоплатном долгу (неоплатонизма)! Ибо как писала Галя: для
вас ли, деятели культуры, Арнаут Даниэль пчёл ебал?
Ночью привычки отваливаются сами, как ненужные цацки, и городом после трёх ночи
правят цыганские дети и звери. Я бреду между гаснущих баров Кадыкëя, пока туристы
и турецкие кокаинисты окончательно рассеиваются как туман, и на встречу мне
являются только смуглые дети, разгоряченные ночным бдением, и что-то щебечут мне
на чужом своём языке, я поднимаю попавшую под руки девчонку в воздух и гляжу в её
сияющее лицо, заливающееся краской: “ну здравствуй, принцесса ночи!” Я
разбрасываю им монетки и ворую для них котлетки у стоя спящих торговцев, и
протискиваюсь сквозь узкие улицы дальше, к дождю, к Босфору, где кошки и вороны и
прочие смышленые звери смотрят так покровительственно, что нет сомнений
догадываются, как неуютно нам в разгаданном мире. Но и ад животных — страшен. И
подкрадывается красивый, пожалевший меня рассвет, и смятое из кармана опять
стихотворение Веры, как сон про что-нибудь такое:
выходила на берег катюша
выходила песню заводила
про степного сизого орла
про
короткий завтрак кроткий
водопой, на заре
и их свидание, у мельницы.
как свидание умело сокрыто.
на заре, в чувстве заклания.
на завтрак, водопой
в слепящем мареве
летят журавли
ласточки, воробьи,
ветряные сороки-воровки.
при саморежущем свете
чёрно-белых коров скрывают пёстрые божьи коровки.
рыжих коров скрывают прозрачные оводы, водомерки, стрекозы, печные сверчки.
4 апреля
Из матраса, на котором я вынужден спать, можно выдавливать клопов, как гной из
прыща. Обычно я плачу пару раз в месяц, периодами — раз в неделю, бывает и так,
что за неделю несколько раз, но с начала рамадана я стал плакать каждый день и
подолгу. Я просыпаюсь и несколько часов лежу в кровати с открытыми глазами, а
затем мои уши наполняются водой. Я уже даже не всхлипываю, не издаю звуков, не
закрываю лицо руками, а просто слезы бегут сами по себе. Я пролил так много слёз на
этой койке, что у моих скорбных клопов должно быть развились болезни почек.
Стук, дверь со скрипом приоткрывается: сосед, Вова, бегло оглядев мой аскетично
извращенный быт, произносит: “эй, Ван Гог, пошли прогуляемся!”
Вова не гуляет далеко — уже с полгода он нелегал (я нелегал всего месяц), он
опасается полицейских. Ситуация его тяжела — его никуда не пускают, сделать визу
без ВНЖ он не может, а подать на гум. визу, как бывший мент, преследуемый
преданной им системой, он не видит оснований, или боится.
И сегодня всё совпало просто идеально: двое террористов прикончивших полторы
сотни людей несколько дней назад в подмосковном концерт-холле, как выяснилось
жили в паре домов от нас, так что улицы теперь наводнены турецкими копами (и
наверняка иностранными агентами тоже) в их роскошных униформах, похожих на
байкерские костюмы из старых игр для приставки, типа супер-соник. Вова хотел купить
травки; минуту он стоит растерянно у залитой солнцем веранды, где турки пьют чай в
пузатых стопках, а кошки лениво вылизывают свою шерсть у их ног и возле столиков,
на пластиковых стульях и кожаных мотоциклетных сидушках, щурясь на солнце.
После полудня встречаюсь с Жекой, трогательным евреем, привязавшимся ко мне ещё
в то время, когда я работал барменом в Москве; он в Стамбуле на пару дней, проездом
в Дубай, где работает штатным математиком. Когда-то он занимался наукой и работал
в Сколково, но теперь что-то считает для арабских капиталистов и ждёт, когда его
репатриируют в Израиль. Жека жалуется на депрессию, он начал принимать
антидепрессанты, чтобы справиться с тревогой. Собственно, он страдает тем же, чем и
я, чем и все: проблемой ненадежной аксиоматики: в чем бы ты ни нашел для себя
смысл, в самих его основаниях ты не обнаружишь ничего убедительного.
Я привёл его к морю, и мы сели на камни. Всё мелководье было оккупировано
медузами. Маленькие, большие, прозрачные, наверное, хрупкие, переливались в
янтарных лучах вечера. Я сказал Жеке, что он вот родился собой, а мог бы родиться
медузой, прожить всю жизнь и не заметить этого, не осознать ни на секунду ни себя
самого, ни жизнь. Но он родился собой и осознаёт это. Когда он понял мою мысль, его
лицо непроизвольно вспыхнуло радостью, а я нашёл в этом нечто обнадеживающее.
Когда мне в голову пришла эта мысль, много лет назад, мне было далеко не очевидно,
что быть собой мне больше хочется, чем медузой, что осознавать свою жизнь —это
благо. Я посмотрел на Жеку, он продолжал ещё улыбаться, щурясь от яркого Солнца, и
я почувствовал, как он сознаëт свою смерть.
Юнгер пишет: “люди встречались, словно на кораблях, обшивка которых лопнула”. Да,
если кто-то тонет, я больше не удивляюсь. Почти незаметна работа горя: она как шум
волн. Мы видели, как дельфин кувыркался недалеко от берега, чёрный, или казался
таким в контрсвете.
Вернулись стрижи и ещё какая-то незнакомая птица с длинным тонким хвостом.
Стамбул слишком изящен для меня. Турки красивые, сластолюбивые, опрятные. Ни
турки, ни турчанки не смотрят на меня — бледного бродягу — только цыгане смотрят.
После заката я возвращаюсь домой, ещё голодный, хотя ифтар уже прошёл, но я не
взял с собой денег. В темноте меня ошпаривает взгляд: молодая цыганка с огромными
глазами на худом лице, обернутая хиджабом, как луна ночью, сидит на асфальте и
роется в разорванном мусорном мешке. Я успеваю заметить ряд кукурузных огрызков
разложенных перед ней, как пасьянс — случайная встреча, казённый дом, нет — и
ухожу, смущённый.
У меня нет ни денег, ни еды для неё, но она заняла мою голову, выжила меня из неё.
Спустя квартал я останавливаюсь в нерешительности. Я думаю, как приглашу её
домой, так, чтобы она не испугалась, мы вместе устроим ифтар, поужинаем. Заметил
ли я тогда её ребенка или это было в другой раз? Соседи не будут против. Я не дам им
быть против. В конце концов это ночлежка, для чего они еще нужны! Пусть остаётся,
если захочет, буду кормить её, никуда не поеду. Её и ребёнка, если я тогда, конечно,
уже знал о нём. Обкрадёт? Ну и пусть.
Я вернулся назад, прошёл мимо толстой цыганки, почти старой, эта тоже хочет. Но я
вернулся назад. Её уже не было. И мешка не было.
(Потом, несколько дней спустя, снова встретил её: сидела с малышом на асфальте,
ковырялась в мешке, стряхивала грязь с корочки хлеба. Делала вид. Я присел на
скамейку, чтобы видеть её. Как ей давали деньги прохожие. Как послушно сидел
улыбчивый ребёнок.)
Когда я дошёл до дома, мне позвонила Ш., очень пьяная. “Я ведь полюбила тебя,
Левитский, а ты — форменный дебил”. “Да, я знаю”. Ш. лежала на качеле во дворе и
мы говорили о любви, о том, как и почему любят всю жизнь и всякое такое. В какой-то
момент прозвучала фраза: “ну, это ещё не любовь”. Тогда я спросил: “а что, если всё,
что взрослые называли любовью, пытаясь оградить нас от вспышек безумного чувства,
— это просто какая-то скучная хуйня?”
Я встретил рассвет с открытыми глазами сложив руки за головой и разговаривая с
довольно жирным клопом, присосавшимся к моей подмышке: “а тебе, мой
членистоногий друг, не кажется, что любовь лишает саму жизнь смысла? Даже когда от
неё ничего не осталось, а может особенно когда от неё ничего не осталось, ты тихо
кровоточишь в одиночестве, пока не останешься обескровленным, бледным и скучным
трупом. Тогда даже ты не найдешь во мне ничего интересного”. Однако, пока ещё клоп
находил меня интересным, слушал молча, не шевелясь. “Любовь как Солнце, — продолжал я, — не амбивалентна. Человек поднял голову к небу в поисках причины
засухи, убившей его урожай, и взмолился огненному шару. Бог есть любовь. Солнце
ещё щадит нас немного”. Солнце поднялось в узком просвете крыш Стамбула, а я
заснул. Скоро я полечу в Каир.
13 апреля
Что ж, я сижу у вод Акабы, пью вино Омар Хайям (из-за которого, — поэта, а не вина,
— по мнению отца я стал муслимом (и алкоголиком — добавляю я)) и читаю пророка
Исайю на вайбе Отвергнутого Израилем. Вчера меня обыскали, обнажили, помяли
металлоискателем мои яйца, выпытали в течение трёх часов всю мою родословную и
биографию, сфотографировали в разных позах, сняли отпечатки пальцев, и — послали
нахуй! Конечно, от них не укрылось то, что я бродяга — мои трусы были желтые,
потому что, как и все алкоголики, я ссусь в штаны, когда напьюсь, но в отличие от моих
истиных соплеменников я люблю белые одежды! Главными моими ошибками было
сказать, что я уехал от войны и не иметь при себе банковских карт. Впрочем, возможно,
что меня как всегда прогнали потому, что я экзистенциалист!
Конечно, слоган “free Palestine” объединяет слишком много мудаков по всему миру,
чтобы я под ним подписывался, несмотря на всë злопамятство моего чёрного гойского
сердца, но я его развил под себя: “free Palestine for bums!! (not for bombs)”.
За своё путешествие через Синай (в каком-то смысле это была богохульная пародия
на оригинал) я истратил все свои сбережения и предоставлен теперь только морским и
пустынным ветрам.
2 мая
Материк за мной тяжелеет, идёт, наливаясь кровью, я его чувствую, как чью-то тень на
затылке. Уже двое русских уклонистов, которых я знал в Стамбуле исчезли без следа.
Первым пропал сумасшедший Аркадий, чье имя в ночлежке стало нарицательным: он
жил в моей комнате и первую ночь я то и дело просыпался от того, что он хлюпает: я
решил, что он голоден с дороги: звуки были такие, будто он дует на горячий суп-крем:
толстая пленка супа вздымается потоком воздуха, как застывшая волна, а затем
падает: звук действительно похож на тот, что издают маленькие волны в заливах и
лагунах; но на следующий день он попросил еды, уверив нас, что не ел несколько
суток, а на наши вопросы, мол, чем же он тогда чавкал всю ночь, и весь день перед
этим, бродя по кругу в гостиной, он лишь пожимал плечами, а потом мы заметили, что
у него ни одного переднего зуба во рту — начисто — слюна скапливается и каждые
несколько секунд он пытается удержать ее, словно бешенный ветер мог бы удержать
воду в подорванной плотине. Я не мог заснуть рядом с ним, пришлось купить
наушники чтобы спать под сводящую с ума музыку, пока он не переехал в
освободившуюся комнату. Штаны Аркадий носил задом-наперед и без ремня, так что
они то и дело сваливались, обнажая ничем не прикрытый лобок, всё время мочился
мимо унитаза и оставлял всюду такую мерзкую грязь, омерзительную грязь, будто ловил
чертей на живца. И еще он постоянно терялся, пропадая где-то по несколько ночей,
только потому, что повернул не туда и не смог найти дорогу обратно. Иногда люди на
улице кормили его, иногда давали одежду. Аркадий вынашивал планы по бегству в
Бразилию и даже сумел купить билет в одну сторону, но, как мы и предсказывали, его
завернули при пересадке в Лондоне, так что несколько ночей спустя он сумел
добраться до ночлежки. Незадолго перед его окончательным исчезновением у него
страшно разболелись зубы: я зашел среди ночи в его комнату, стрельнуть денег на
вино, он как всегда сидел в полной темноте, но когда он обернулся, я заметил, как в
лучах впущенного мною через щелку дверного проёма света блестит пот, полностью
покрывший его лицо, и глаза, полные ужаса, боли, и будто он силился что-то понять и
не мог. Мы послали его в аптеку за обезболивающим, а на следующее утро
обнаружили в его комнате четыре пустых стандарта анальгетиков. В рецепте было
сказано: одну-две таблетки каждые двенадцать часов, он проглотил восемьдесят и
ушел. К вечеру у нас не осталось сомнений, что он мёртв, не живее медузы на камнях,
которых море как раз приносило тысячами в эти дни, с таким же как они белым лицом
и такими же как они прозрачными глазами, но на следующий день он явился как ни в
чем не бывало, с пакетом заплесневелого хлеба и окурком, прилипшим к щетине.
Затем, в один день он спросил нас, что если он купит билет до России на автобус
идущий через другую страну, и просто выйдет в этой стране и никогда не вернется в
автобус. Мы рассудили, что это может сработать, так что на следующий день он исчез
со всеми своими вещами и больше мы о нём ничего не слышали. Вова нашёл его
инстаграм: на фотографиях красивый юноша с крашенными в серебристо-белый
волосами, в объятиях другого, они улыбаются, их тонкие тела, завернутые в
полотенца, покрыты крупными каплями воды, а на их фоне бассейн и голубое яркое
небо, кадр, залитый солнцем, но в инстаграм он больше не заходил. Я смотрел на это
фото и не мог понять: почему этот трогательный юноша пошёл служить по контракту?
Когда началась война он сбежал из части. В какой момент он сошёл с ума я не знаю.
Затем исчез другой наш сосед — Саша. Вечером он ушел в гей-клуб, где обычно курил
метамфетамин и тратил треть своей зарплаты официанта в компании турецких и
африканских геев. Другие две трети он тратил на красивую одежду. Когда ночлежка
закрылась, а Саша так и не вернулся, мы с Вовой вынесли всю эту одежду на улицу и
сложили между помойкой и курятником. Вова улетел в Сербию в надежде перейти
границу с Хорватией, а я пошёл в бар.
Что за волшебство? Что за черная магия: люди, один за другим, исчезают у тебя на
глазах, а ты ничего не можешь поделать с этим. Словно преследуемые материком мы
перебрались на остров, а материк нагнал нас и проглотил остров, и стал больше на
один остров, больше на одного исчезнувшего, пропавшего без вести, и когда я пытаюсь
заснуть материк шепчет мне, беззубо хлюпая своими жвалами, перемалывающими
кости и хрящи и живую плоть до состояния ничто, полного отсутствия, меньше чем
отсутствия: “да уж, ты и впрямь не остров в океане!” Но я хочу быть островом, Господи,
пусть я лучше пойду на дно вместе со своей клоповой лежанкой, как пробитая лодка,
но не стану частью этого вонючего материка переработанной органики! Я покидаю
ночлежку и вглядываюсь в тёмный горизонт, с той стороны пролива я чувствую
тяжёлый свинцовый стон, он зовёт меня словно злоебучий Ктхулху, я купил на
последние шестьдесят лир банку креплёного пива, открыл её и застыл, как кролик,
заворожённый глазами змеи, когда из темноты ко мне на встречу всплыли две пьяные
турчанки: “эта куфия, что ты намотал на свою тупую башку, ты хоть знаешь, что она
обозначает?” “Да” — я ответил. И после молчания одна что-то прошептала другой
по-турецки и другая, смерив меня взглядом, сказала: “если хочешь, ты можешь пойти с
нами.”
17 мая
— Твоя фантазия прочно связана с честностью — говорит Зейнеп, и это смешит меня:
я не встречал ещё человека более лживого, чем я сам. Никогда прежде не говорил
всей правды, всегда манипулировал людьми ради пропитания или удовольствия, врал,
только чтобы врать, предавал, чтобы почувствовать что-то новое, впадал в
зависимость от измен, только иногда находил человека, у которого, чаще — которой, в
глазах мгновенно читал, что она меня ни за что и никогда не осудит, и рассказывал, и
доверял ей всë, ничего не утаивая, ничего не приукрашивая, и Зейнеп именно она.
Зейнеп аутистка, и кажется ей глубоко непонятен сам концепт лжи, хотя подчас,
глубокой ночью или уже глубоким утром, когда мы напиваемся так, что не можем
пошевелиться, и по опухшим лицам волнами бродят неясные намерения и интуиции, я
на секунду ловлю себя на мысли, что она вор и лжец, какого я в жизни не встречал,
настоящий Дьявол, утренняя звезда. Мы смешиваем кокаин с водкой в большом
стакане, на залитом зелёным светом балконе, и я, следя глазами за маленькими и
хрупкими, как ожившие чёрные листки, летучими мышами, вьющимися за окном на
расстоянии вытянутой руки, рассказываю ей о своей бабушке — Галине, которая
родилась без малого сто лет назад, в тридцать шестом, так что в сорок втором ей было
шесть и она жила в городе Канске, при какой-то там фабрике посреди Сибири,
окружённая чёрным, колючим, хуже колючей проволоки инея, тайгой и голодом войны,
пока отец был на фронте, и как она шла по голодной дороге, какие и сейчас
пронизывают Канск, не много изменившись (почти сто лет спустя я и сам брëл по ним,
однажды ночью, после двух бутылок водки сорвавшись из Красноярска я автостопом
пересёк зимний сорокаградусный лес, стосорокакилометровое море сорокаградусного
леса, слышал проснувшегося не в срок медведя, смотрел в глаза диким и пьяным
людям, с бутылкой и ножом между сидений, и, добравшись до Канска, всю ночь
бродил по голодным, неосвещëнным дорогам, в компании обезумевшей женщины, что
пыталась продать мне своё тело за пятьсот рублей, а на следующий вечер вернулся
домой, так же, автостопом, думая, что стал больше понимать о своей бабушке, но всё
же будто бы меньше) и на такой дороге она нашла кошелëк с деньгами и документами,
и по адресу в документах принесла его хозяйке, не взяв ничего себе. Хозяйка была так
ошарашена и не зная, как отблагодарить девчонку, мою бабушку, разрешила приходить
к ней хоть каждый день и читать любые книги из её библиотеки, а библиотека у неё
была внушительной, ну, по меркам Канска сорок второго года, и бабушка прочла в
конце концов все её книги, а некоторые выучила наизусть, и шестьдесят лет спустя
пересказала их мне, стоя под углом тридцать градусов над грядкой она пересказывала
мне “шагреневу кожу”, “графиню де Монсоро”, “проклятый корабль” (это о “летучем
голландце” и я просил пересказывать мне эту книгу по три раза на дню) и много других
книг про разнообразных графинь и госпож, не помня авторства и подменяя
французские имена русскими, но удивительно подробно, во всех деталях, бережно
соблюдая последовательность глав и изящно сохраняя психологизм и интригу. Когда
мне было пять, она так же наизусть прочла мне “Мцыри” на ночь вместо колыбельной,
а потом ещё тысячу раз, но я прекрасно помню самый первый, будто мне и сейчас не
больше шести: я чувствую её тёплое тело и запах справа от меня, а глаза мои словно
из-под воды уставились в потолок, по которому мерно плывут прямоугольники
автомобильного света, но всё моё существо, вся моя действительная жизнь — в
Грузии её голоса, в горных лесах, а я — то ли юноша, проворачивающий острый сук в
мягкой шерсти барса вглубь его тела, то ли призрак, следящий за его победой и
умиранием, между кронами и звёздами — старик, мне говорили много раз, что ты меня
от смерти спас. Зачем? — её голос сейчас как неостановимо ветвящийся корешок в
моей груди, и я чувствую, как сквозь тугой воздух в её рту скользят крохотные тела
летучих мышей.
Я встретил Зейнеп и её подругу, Бейтюль, в барном квартале Стамбула, в полном
отчаянии, без крова и денег, стоя как идиот с бутылкой крепленого пива уставившись в
блистательную и безразличную черноту города и кажется был готов обратиться
соляным столбом, когда услышал её голос. <...> Я пошёл за ними. Мне понравилась
Бейтюль — безумная, как бедуин, едва достигнув совершеннолетия, она вступила в
местное отделение Аль-Каиды и собиралась отправиться в Сирию на джихад, но
вышла замуж за богобоязненного, но не столь отчаянного мусульманина, и поехала за
ним вместо джихада в Европу, где тот планировал чему-то научиться, но учиться стала
она, сняла хиджаб и в конце концов бросила мужа, вернувшись в Турцию совершенно
чужой для своей семьи. Зейнеп немедленно почувствовала взаимное притяжение
между нами и пустила всю свою нелепую энергию в то, чтобы мы переспали. Когда
Бейтюль разделась и раздела меня, Зейнеп настроила приятный и странный
фиолетовый свет и включила камеру, но едва я вошёл в Бейтюль, я почувствовал, что
ни в её глазах, ни в отражении моих глаз, нет правды, и мой член упал. “Что ты
чувствуешь?” — спросила моя любовница. “Ужас”. Зейнеп выключила камеру. Бейтюль
собралась идти спать в другую комнату. “Почему?” — я спросил. “Потому что я шлюха,
и не сплю со своими партнёрами. И не целуюсь”. “Это ложь” — я ответил, — “спи со
мной”. И она спала.
Мы провели вместе ещё несколько дней, слившихся в одну ночь, беспробудно, не
трезвея. Мы всюду искали кокаин и одним утром пришли, не спав ещё, к какому-то
барыге с комплексом мачо или просто зудящим членом. Кокаина у него не оказалось,
мы раскурили огромный косяк, его комната была устлана бардовыми коврами, убрана
тяжёлыми гардинами, в углу — небольшая сцена и видео-аппаратура. Через полчаса у
него зазудел член и он уложил Бейтюль себе на колени. Я немедленно вышел и
Зейнеп бросилась за мной, но не поспевала: этажом ниже я выбил с ноги дверь,
ожидая, что утренний свет ослепит и освежит меня, но вместо этого, с кровати посреди
каморки, такой узкой, что я бы в ней и собаку не поселил, вскочил перепуганный
мужчина, что-то крикнул мне на турецком, и мне показалось он кричит: “это не я!”
“Простите” — смущенный, я прикрыл выбитую дверь и зашагал ниже, на улицу. “Но
ведь я ничего к ней не чувствую. Это одно моё эго” — сказал я себе вслух. На улице,
под моросящим дождëм, стоял красный пикап, я бросил себя в его кузов и
почувствовал, как на меня льётся теплая пена — Зейнеп поливала меня пивом. Рядом
с ней, хохоча, стояла Бейтюль — Зейнеп буквально вырвала её из рук барыги. Для
меня.
В доме Бейтюль мы стали укладываться спать — хозяйка с краю, Зейнеп посередине
— я, всё в том же ужасе, пытался уснуть в кресле, а затем порывался уйти прочь из
дома в новый проклятый день, но Зейнеп хватала меня за руку, умоляя лечь, а я
возвращался в кресло. На третьей моей попытке сбежать, меня схватила за руку
Бейтюль — и уложила с краю, рядом с собой. Зейнеп тут же вышла из комнаты.
Бейтюль крепко сжала мою ладонь, поцеловала в спину, и я уснул.
Наступал Первомай, и турецкая оппозиция обещала провести шествие в парке Таксим,
где шествия были запрещены десять лет назад Эрдоганом, и где на месте самого
массового столпотворения протестующих он, Эрдоган, возвёл гигантскую уродливую
мечеть, чтобы Аллах, должно быть, удержал его власть. Зейнеп отправилась туда, но
мост в Таксим был перекрыт сотнями полицейских. Зейнеп подходила к ним,
пошатываясь, с бутылкой виски в руке, предлагала полицейским выпить с ней, а когда
они раз за разом отказывались, улюлюкала, выкрикивала издевательские лозунги и
пела революционные песни. Однако никто её не задержал — “конечно! Ведь это моя
страна!” — потом поясняла она, а я завидовал. Она вернулась к дому Бейтюль после
одиннадцати утра и уснула на коврике перед её дверью.
С тех пор я стал жить в доме Зейнеп и она учит меня правде: иногда мне кажется
сквозь её глаза я вижу Бога, а иногда, что через них на меня гордо и вызывающе
глядит Дьявол. Сейчас ей пора уходить: она втягивает последнюю дорожку, целует мои
волосы, втягивает мой запах и оставляет меня одного. Через полчаса я получу от неё
сообщение:
“Кажется, все мои чувства выплеснулись наружу. Я не могу сидеть на месте. Может я
переборщила с кокаином сегодня. Я остановила такси, вышла посреди дороги и пошла
пешком. Купила ещё вина и выпила его. Я сижу на балконе своей матери и курю
сигарету. Прилетела голубка, свила гнездо и села рядом со мной. Она пытается в
одиночку высидеть яйцо. Я думаю о своих чувствах к тебе. Они каким-то образом
завладели мной. Я надеюсь, это пройдëт, как только пройдëт опьянение. Я знаю, что
ты равнодушен ко мне, но я не могу скрыть от тебя правду. Ты говоришь, я лгунья, но я
не помню, чтобы лгала тебе. Дьявол? Может быть. В чём вина Дьявола, если он так
сильно любит жизнь? Как может быть Дьяволом тот, кого заставляет кричать ветер или
летучая мышь? Может быть то чувство огня в твоём сердце именно такое. Я так
счастлива, что ты прикоснулся к моей жизни. Хотела бы я прикоснуться к твоей”
9 июня
Я всегда хотел быть беззаботным и покончить с собой так же беззаботно, как мотылёк
в середине лета, будто и нет ничего более естественного, чем разбить голову о
пылающее стекло или фатально поперхнуться амфетамином пошедшим не в то горло,
как случилось с моим старым корешем провалившейся красноярской юности, который,
кстати, откашлялся и преспокойно занялся бизнесом по разведению гигантских
IT-улиток, чьи перламутровые раковины заменяют глаза слепым змеям разэтичного
капитала, раздувающимся на пузырях российской диаспоры; он женился, переехал в
Белград? Португалию? Черногорию? где налоги “почеловечнее” и, когда я встретил его
в Стамбуле, т.е. в планетарной гостиной для семейных встреч богатых русских
эмигрантов, по старой памяти он купил для меня и моих подруг несколько грамм
кокаина (не самого чистого, скажем прямо), но сам воздержался — сердечник; о куда
провалилось твоё алмазно-зеленое сердце, Алёша, как червь точившее жизнь? — мне
скучно, он мне сказал на прощание.
Мне не скучно; почти две недели я безвылазно торчу дома у Зейнеп, хотя она и
смотрит на меня подчас с изумлением: “может ты хочешь сходить куда-нибудь?
посмотреть на море? встретиться с кем-то?” — нет, я не хочу никого видеть, твои
ненормальные друзья мне надоели, я не понимаю ваш язык, я и английский, на
котором мы с тобой говорим, не понимаю, я хочу сидеть на балконе, пока солнце печëт
моё бледное и мягкое, как греческий сыр, тело, читать свои русские книги, в смысле
конечно переведённые на русский американские, французские, немецкие,
латиноамериканские, латинские, греческие и польские книги, с людьми, с этими твоими
живыми турками и турчанками, курдами с Вана, пьющими нефтяные обмылки вместо
кофе и жаждущими выучить английский, будто это пятые врата суфизма, твои
турецкие пидовки с бритыми головами, пахнущими гелем, пихающие член мне в рот, как
только ты отходишь поссать, турчанки из религиозных семей, что выплеснули вместе
со страхом божьим любой интерес, кроме ебли, да и тот смочив уксусом феминистской
паранойи, короче, друзья твои мне не интересны, как и в целом большинство
представителей нашего порочного во всех отношениях вида, здесь, в Турции, меня
стали раздражать даже старые исламские поэты и утренние азаны, меня радует один
только Орхан Вели, которого ты иногда читаешь мне по памяти и безуспешно, но
чувственно пытаешься растолковать мне по-английски.
Тощие цвета человечьих страстей теряются на улицах города, который вылеплен
домом для них, но ночью на улице Омара Хайяма, когда мы пьём с полицейскими и
мимо проходит сирийский юноша с невидимым лицом и пистолетом в руке, никто не
обращает на него внимание, словно он тень насекомого с тяжёлыми надкрыльями, не
способная разбить стекло, а только глухо бьющаяся в невидимый потолок ревности.
Целый день Зейнеп работает за компом, а затем уходит на рабочую встречу, где,
однако ей без меня скучно или одиноко и, после заката, она зовёт меня выпить с её
коллегами. Хорошо, я соглашаюсь, но, разумеется, всё это довольно быстро взлетит
вверх тормашками и мучительно повиснет в воздухе, как ницшеанский канатоходец
зацепившийся яйцами: наша соседка, Фейза, положила глаз (она вообще любит
разбрасываться органами, а однажды разбудила меня в пять или шесть утра, умоляя,
чтобы я отхлестал её любовника членом по лицу, а когда я отказал (сам не знаю
почему) романтик устроил ей такую истерику, что ей пришлось его выдворять силой, а
он ещё несколько дней слал ей изощрëнные угрозы, кроме прочего обещая рассказать
её отцу, где она живёт, потому что её отец-то уж точно не поленится отрезать дочери
голову, без шуток) на парня, который положил глаз на Зейнеп, и который в свою
очередь Зейнеп понравился, но так как колени её были обращены ко мне, то Фейза,
чтица больше человеческих тел, не душ, взяла парня в оборот. Разговор разумеется
шёл на турецком и довольно скоро я взялся за любимое дело: портить людям вечер
надираясь за их счёт. Первым делом я проживал и проглотил свою недокуренную
сигарету: оказалось это совсем не больно, по крайней мере если ты уже пьян.
— Фейза вечно пытается трахнуть всех, кто нравится мне — заметила Зейнеп.
Все эти дни мы говорили с Зейнеп о радикальной правде в духе Канта, так что я
указал ей: то, что она закрывает на эту ситуацию глаза, тоже можно счесть ложью.
Начавшийся между нами спор был недолгим, но быстро достиг такого градуса, что
Зейнеп говорила всё тише, в конце концов перейдя на шёпот, а я напротив — всё
громче, пока Фейза не услышала о чём мы толкуем и немедленно вспыхнула: дальше
спор продолжался на турецком и охватил, как лесной пожар, всех присутствовавших,
но, как мне потом пересказали, тема его перескочила с личной жизни Фейзы на её же
отношение к мигрантам: девушка-коммунистка кричала ей: “я состою в
коммунистической партии, я знаю где ты живёшь, я убью тебя!” Моя задача была
выполнена, я отвернулся к стене и беззвучно заплакал.
Фейзу чуть не уволили из-за расистских инвектив в мой адрес, хотя я прекрасно знал,
что во всём этом виноват один я. Больше она не обмолвилась со мной ни словом и не
просила приготовить ей завтрак. В конце концов псевдо-расистские выходки чаще
позволял себе я: однажды в доме Бейтюль начертил на стене символ выглядевший как
свастика с пустым центром, пытаясь проиллюстрировать свой кислотный трип, а когда
меня спросили, зачем я начертил свастику, я только и сказал: “это не свастика”.
Так или иначе, всё это закончилось быстро и бесславно: в какой-то момент я перестал
спать с Зейнеп, потому что встретил русскую девушку, которой решил быть верен, не
смотря на то, что она живёт в России, у неё есть ребенок и муж. Спустя неделю агонии
Зейнеп нашла себе любовника, среди тех, кому она прежде отказывала, возможно
из-за меня отказывала, и мы пошли пить за его счёт. В четвёртом или пятом баре я, а
состояние моё было уже близко к блэкауту, в духе алко-апокалиптического экстаза
проповедовал о будущей Великой Войне чёрной и белой рас, где мы с Зейнеп будем
на стороне белой расы против него, её любовника, что было чистейшим бредом, так
как как минимум она была ничуть не белее его, а затем повернулся к нему, посмотрел
в его карие собачьи глаза и поведал, не меняя профетического тона, как бил его
любовницу членом по лицу. Он убежал, сдерживая слëзы, а Зейнеп сказала: “я не хочу
больше видеть тебя в своём доме”.
Я всегда хотел быть беззаботным и покончить с собой так же беззаботно. После
расставания с Зейнеп я вернулся в Ереван и сперва спал в разданском ущелье, а днём
подрабатывал в баре, пока моя одежда не стала вонять (всю свою старую одежду я
оставил в аэропорту Стамбула, потому что оказалось, что я могу отправить в багаж
только один из двух чемоданов, и я выбрал чемодан с книгами) и мне указали на это.
На шестой день я нашëл вписку, спал тринадцать часов к ряду и всю ночь меня мучил
тик в большом пальце правой руки, в котором я когда-то перерезал сухожилие и нерв,
раздавив бокал в руке. Тик беспокоит меня и сейчас, пока я пишу эти строки. Помню
как когда мне только сшили сухожилие и нерв, и я не чувствовал свой палец, я смотрел
на него с изумлением и мне казалось, что я вляпался пальцем в смерть и теперь он
торчит с другой стороны бытия: как любопытный ребёнок я просунул палец в слишком
узкую дырку и теперь не мог его вынуть, и это ощущение, я осознавал это, было лишь
предощущением того, что всё моё тело когда-то пролезет в эту дырку, всё оно
занемеет, покроется тёмным инеем, и я уже не выгляну из него. Я смотрю на свой
палец сейчас: он дёргается, как лапка мëртвого насекомого, непроизвольно, тикая, как
часы стучащие с той стороны, напоминая, напоминая: когда Христос спустился в Ад
забрать души, погружëнные в онемение, ни один человек не поверил ему или не узнал,
только животные пошли за ним, и среди животных: полчищ крыс, волков, ворон,
буйволиц, сороконожек, бабочек и тараканов, рыб и дельфинов, летучих мышей и
гадюк, павианов и лошадей, кошек всех мастей и размеров, попугаев всех цветов,
жуков и червей, мокриц, ежей, клопов, комаров, даже высохшие цветы потянулись за
ним, и среди них, вслед за этим странным парадом шёл Каин, который итак
давным-давно отвык от людской компании.
27 июня
Я вернулся в Ереван, но каждый день мне снится, что я где-то далеко: то я улетаю из
Стамбула и, перед тем как поехать в аэропорт, иду с Зейнеп по её родному Фатиху,
чтобы показать ей лучший фалафель в арабской закусочной, как обещал наяву, но так
и не показал, то путешествую по африканской пустыне в поисках загадочного
режиссёра Нуре Бильге, и даже участвую в скачках с двумя старыми и беспородными
лошадьми, привязанными к деревянной колеснице, которая разваливается в щепки на
повороте и щепки тонут в пыли и песке, и мои лошади побеждают и на один шаг я
становлюсь ближе к режиссёру-призраку, а этой ночью я покупал билеты куда-то
далеко через Турцию или Грецию или в Иорданию, и они стоили полмиллиона рублей
на сегодня и двадцать баксов на следующей неделе, но я отдал полмиллиона,
украденные мною у матери, только бы улететь немедленно, этой же ночью. Я
просыпаюсь в пять часов вечера, потому что работаю в ночь, и это “утро” мне не
нравится, я не хочу есть, не хочу напиваться, не хочу трахаться, я хочу далеко, далеко,
далеко, так что я курю, пью кофе, и зло смотрю в окно, ожидая, когда пора будет идти
на работу. Где мои милые иллюзии, которые притащили меня сюда? Зачем вы
оставили меня? Раздавлены как клопы. В своё оправдание: я никогда не давил клопов,
мне хватало уважения. Я окружен людьми, но чувствую одиночество. Я живу в уютной
комнате с добрым соседом, чью одежду я ношу, который приносит еду и ничего не
требует, кроме кварплаты, но мне хочется оказаться на дикой улице Омара Хайяма или
в переулке Каира. Зейнеп пишет мне: “что за сука назвала меня “бедной Зейнеп” у
тебя в комментариях?!” и вызывает у меня улыбку, но затем я устраиваю ей истерику,
потому что “мне больно, что ты оставила меня”. Зейнеп тебе не подруга, а любовница,
— пишет Анфиса, — “которая тебя вышвырнула, когда ты ляпнул что-то неугодное ей”.
О, так ты защищаешь меня? — Конечно, но тащить меня к своей любовнице было так
себе затеей. — Да, это была плохая идея. “Возможно нужно больше плохих идей,
чтобы писать больше хороших текстов и срывать ещё больше оваций и комплиментов
в фейсбуке” — пишет Анфиса. “Я боюсь того, что ты можешь со мной сделать” —
пишет Анфиса — “ты не хочешь жить в Ереване. Ты хочешь захватить меня”. “Я ни к
чему не готова, я выберу одиночество”. Я пишу Даше: “приезжай в Ереван и мы
снимем твой фильм”, но моё последнее предательство разорвало для неё любую
связь со мной, даже артистическую, которой мы так дорожили, и она не отвечает. Я
пишу Тамаре: “приезжай на выходные, выпьем”, она отвечает: “ты был бы колонистом,
ты был бы плантатором, то что ты не ешь животных — какая-то нелепая ирония”. На
улице удушающий ветер, воздух застрял в клубке мокрой пыли и его не вдохнуть:
собирается гроза, но она не разразится, она просто застынет, как соляной столп,
словно город обернулся на смерть города, застынет и гром, переваливающийся как
песок в отдалённой пустыне, как в зашитом мешке, застынут и матовые молнии, не
сверкая, и я в своих пляжных сланцах, и все смеются надо мной: “ты что, с моря?” и я
по привычке высматриваю его в пыльных просветах между домов, и всë напоминает
мне о невозможности вшитой в жажду.
Люди собираются в мумифицированном воздухе чтобы протестовать против сдачи
армянских сёл Азербайджану, “эх, что ж вы на людей так завязаны?” — пишет мне
Елена Косилова, чью книгу о бессилии я сейчас читаю. “Иногда как-то кажется, что
люди того и другого пола вас просто отымели” — неожиданно вставляет она. “На свете
нет ни покоя ни воли, зато много счастья” — я иронизирую. Она смеётся: “это вы точно
про себя сказали”.
Когда я одинок дни и ночи путаются у меня в голове и бывает я не могу уже сказать что
произошло до, что после, я переживаю одиночество очень тяжело. После полуночи
протестующие перекрывают улицу и разбивают палаточный городок напротив дома
правительства, но кроме запаха костров ничего в их лагере меня не радует сколько бы
я там не бродил между стеной уставших полицейских роняющих головы на щиты и
кучкующимися мужчинами и женщинами, смеющимися, громко говорящими,
танцующими иногда, ни один и ни одна: люди были некрасивыми и выглядели глупо.
Так что я пошел в любимый бар на Сарьяна, но он был закрыт: через окно я видел как
Юля закрывает его на ключ изнутри и уходит в темноту, спать, а я сел на поребрик
свернуть себе папиросу, когда увидел Лиану, невысокую худую женщину лет
семидесяти с крашенными в белый волосами: “вы не знаете, где здесь можно
покушать?” Я не знаю, я ответил, “мне одиноко”, сказала она.
Я повёл её в забегаловку, где обычно пожирал фалафель, когда уже не мог стоять на
ногах, и по дороге разглядывал её и задавал разные глупые вопросы, которые, как и
ответы, кажутся мне теперь чепухой: “что вы делаете здесь так поздно ночью?” “Я
должна была встретиться с друзьями на вернисаже. Но они не пришли”.
Мы заказали какой-то еды, официант, который обычно был со мной по-армянски
фамильярен (это дерьмо у них считается признаком уважения или принятия чаще
всего) смотрел на меня с едва скрываемым презрением. “Что ты думаешь, — сказал я
ему глазами, — я собираюсь трахнуть эту старуху? Если бы ей это было нужно, я
трахнул бы её если бы смог”. Сукин сын.
Пальцы у Лианы были перекручены, как местами вздувшиеся, а местами растекшиеся
потоки ржавчины, на всех пальцах были кольца, которые она уже никогда не снимет,
словно дерево она проросла через металлические горлышки, один палец — указательный на левой руке — рос вбок, каподастром пересекая все остальные — и,
хоть он и не выглядел раздувшимся, кольцо терялось в его глубоких морщинах и было
невидимо; средний на левой руке схваченный сразу двумя металлическими кольцами
— одно без камней, с резьбой, другое — ближе к руке — с двумя голубыми
стекляшками — покрылся капами, как старая липа; мизинец и безымянный тоже несли
по два кольца, причëм безымянный — серебряные, и мне почему-то казалось, что они
были первыми, которыми она украсила свои руки, десятилетия назад.
Сперва Лиана проглотила шаурму с курицей, но она была холодной, так что она взяла
себе ещё хачапури и съела его быстро, и смешно тянула сыр, отводя еду на вытянутой
руке, на груди, среди десятка странных или даже нелепых ожерелий и бус, терялось
здоровенное распятие с мой большой палец, а руки у меня большие, кожа у неё была
выдубленная, а глаза голубые. На Лиане смешная и стильная белая шляпа, как на
Снусмумрике, и у неё молодые плечи. Она говорит тихо и невнятно о том, что никто её
так и не полюбил, зачем-то картирует мне её родной Ереван: “ <...> консерватория, там
слишком много хороших людей, дальше неплохое кафе “поплавок”, нет, кафе — “сквознячок”, а “поплавок” выше, у меня были зубы — золотофарфор — их сломали”.
Спрашиваю, что она собирается делать ночью, но она не отвечает.
Кафе закрывается, и мы идём посидеть в парке у Оперы, она выуживает недопитый
айс-лате из мусорки и предлагает мне, “у нас так принято”, разумеется, “сынок, попей”,
я отказываюсь, а теперь жалею об этом, я несу её пакет с пластиком и всяким
мусором, что она поднимает по дороге, другой такой же пакет несёт она. Кошка,
которая живёт у меня дома подыхает от желания: целыми днями она орёт, когда я ем,
когда я читаю, когда я дрочу, когда я пытаюсь уснуть, она всё время орёт, выгибая
спину так, будто достаёт свой стон, свой вой, свой лай из кишок, из желудка, прямиком
из матки, она разбрасывает вещи, дерёт меня когтями, зарывает голову мне в ступни,
когда я готовлю еду, стонет, словно я снова приехал к бабушке и мой парализованный
от пьянства дед кричит, стонет, орёт, плачется, как ребёнок, умирает, снова и снова,
хочет умереть и не может, будто у него запор смертью, будто он проглотил свою жизнь
и никак не высрет. Она вопит почти как человек, которого душат, иногда я повторяю за
ней и она с удивлением отвлекается на меня, подходит ко мне, нюхает, ластится,
может, надеется, что я помогу ей, Делёз считал омерзительным говорение с
животными, как с людьми, но наши языки почти совпадают, я придавливаю её ладонью
к полу, мну её лопатки, почти придушиваю, чувствую, что это то, чего она хочет, но не
до конца, а до конца я не могу, мои гениталии не подойдут ей, я её только травмирую,
так что я разжимаю ладонь, она отходит от меня на пару шагов и снова начинает звать,
звать, кричать, что умирает. Я давно вышвырнул бы её на улицу, к жизни, чтобы она
отдалась своему желанию, зачала, вырастила бы ещё дюжину несчастных сознаний и
скорее всего сдохла бы в мучениях, учитывая, как армяне презирают животных, но, к
счастью, её подобрал мой сосед, а не я, это его ответственность, и мне остаётся лишь
ждать, когда он отвезёт её в ветеринарку и там ей вырежут к чертям собачьим всю
плоть, что так неумолимо владеет ей и мучает её. С Лианой мы сидим на лавочке, она
опять нашла что-то в помойке и пьёт, я предлагаю вызвать ей такси, но она
отказывается, затем звонко пердит и говорит, не смутившись: “у нас в Армении как в
Европе, так принято”, я поддерживаю её вайб, я снова предлагаю Лиане такси: “просто
скажите мне адрес?” — “я не хочу домой, там слишком много мёртвых, они все войдут
в меня”. В конце концов мне удаётся уговорить её, и мы идём к такси, когда она вдруг
заворачивает между деревьями глубже в парк, пульверизаторы опрыскивают цветы и
бросают капли на мои голые ступни в пляжных сланцах, когда я вижу, как короткие
шорты Лианы темнеют и большое влажное пятно распространяется по её бёдрам, и я
не сразу понимаю, что это не пульверизаторы. Дальше мы идём в тяжёлом молчании,
делаем крюк и возвращаемся в парк, она находит какой-то журнал и расстилает его на
скамью перед тем как сесть. “Вы идите, Никита”. Я чувствую, как ей неловко, кладу руку
на её плечо, я чувствую бессилие. То бессилие, к которому стремится Косилова,
которое она предлагает (как мне искренне кажется, вслед за на коленях обнимающим
страдающую лошадь Ницше, которого она презирает) воспринять экзистенциальным
вызовом, программой (как мне поставить программой бессилие, не способное (не
способное!) ни к каким программам?) беззвучно внутри звенеть — поёт моя
обессилившая возлюбленная, и я, обессиливший, мечусь по летнему дню, похожему
на вечность, уставший до смерти пьянеть самим собой, здесь, в этой душной ночи,
любимая, я никого не люблю и не помню, я мечусь в уродливых и пошлых отражениях,
словно заперт в ночной лавке со срезанными цветами, провонявшей бесплодной
пыльцой, дай мне любить тебя, цветущая, какой толк от моего сознания, если я не
могу сменить твои обоссанные штаны, если я не могу увести лошадь от её
обезумевшего хозяина, не лучше ли опиумным соком известь остаток сознания, не
лучше ли быть маком, сухой гречкой, броситься в воду, быть утопленником проросшим
лилиями, сельской Офелией, и спать только с тяжёлым быком рассвета на холме,
никого не любя и не помня, раскрывать матку, которой у меня нет, чернилам
беззвучного бессилия, пьянеть только твоей рукой, которую ты мне дашь, дай мне
свою руку, разожми, твои ногти уже проросли в мясо от напряжения, дай руку, пойдём
со мной, я сменю твои обоссанные штаны, любимая.
17 июля
Меня часто мучает тревога безо всяких причин, такая тревога, как когда наступит ночь
среди ночи, или среди дня, не важно, такая тревога, что я иногда не в силах перейти
дорогу или перехожу дорогу из последних сил, так, что у меня перехватывает дыхание,
я не могу дышать, не могу смотреть по сторонам, словно ничего и не вижу, могу только
ощупывать руками, и жмусь к стенам, к стенкам материнского чрева, ищу защиты у
вертикали, у пуповины, оборванной, как волосок, на котором всё держалось, струна,
которая не звучит, упала на раскаленный или холодный от ночи асфальт сплошной
линией и к ней не прислониться, вот я и не могу перейти дорогу под развëрстым
небом, чистым, бездонным, высоким до ужаса, не амбивалентным, можно же в него
упасть, особенно когда всё вокруг пахнет хлоркой и хлорка и чистота, эт
омерзительная чистота, как зубная боль, последнее, что только и можно почувствовать
в мире, по крайней мере когда до конца останется так мало, что никакая память не
ухватит это мгновение и ты чувствуешь себя всё более лёгким и лёгкость подталкивает
тебя, как газ —шарик, к чему-то похожему на белый шум экрана… Но у меня есть
способ бороться с этой тревогой, этим ужасом какого-то непреднамеренного кесарева
сечения, какого-то аборта из жизни: я покупаю бутылку гюмри экстра, восемь градусов,
или вина иджеван, за тысячу семьсот драм, или бутылку армянской водки, и с первых
же глотков тревога отступает, ночь становится мягкой, как подушка, становится
прохладней с каждым глотком, и вот я уже иду посреди дороги, ставя ступню за
ступнëй прямо на рухнувшую пуповину или совсем бестревожно, невинно, как
отчаявшийся эмбрион, безумный младенец, по встречке, навстречу фарам,
ослепляющим, манящим, и вот по моей ступне проехал автомобиль, но я, к своему
вящему изумлению, ничего не чувствую, и моей случайной спутнице, которая пришла в
ужас, только и кричу: “я очень сильный, я ничего не чувствую, ха-ха-ха! не беспокойся,
я сильный,” но она куда-то ушла, это было ещё в Стамбуле, и на следующий день нога
не болела, “давай, иди, проваливай, дура, ты не знаешь, что ты теряешь, я — гений! — я рыгаю, скрежещу слова не громко, но злобно — где ты думаешь ещё такого найдёшь,
Даша бы не ушла, это точно, она никогда не уходила, никогда меня не бросала, знала
мне цену, конечно, знала, что я лучше всех, это точно — я почти перехожу на крик,
хриплый, но у меня сорван голос, — да кто вы вообще рядом с ней, ебливые мокрицы
и больше ничего!” мне всё ещё хочется трахаться, хочется, чтобы кто-то гладил моё
тело, ноги, которые так устали, гладил меня по голове, целовал, может, в волосы, я
сажусь посреди дороги, это уже Ереван, и начинаю дрочить, глядя на это матовое, как
мокрый уголь, небо, слегка моросящее, прыскающее мне на лицо мелкой водой, но я
всё ещё немного смущаюсь проезжающих мимо машин, сигналящих мне в лицо, и
встаю, я не ел целый день, я голоден, так что моё внимание привлекает брошенный у
дороги арбуз, огромный и целый, рядом пакет в грязи — кто-то возможно побрезговал
нести этот грязный пакет, я выливаю из него чёрную воду и пихаю внутрь арбуз,
тяжёлый, забрасываю его себе за плечо, снова иду посреди дороги пошатываясь и уже
особо и не смотрю откуда и куда едут автомобили, пока мощный толчок в бедро не
отбрасывает меня на несколько метров влево, я падаю на плечо, но успеваю защитить
голову локтем, который теперь разодран и слышу скрип тормозов, мягкий, мокрый удар
разорвавшегося арбуза, мне кажется, что мои ладони погрузились в тёплый сок ягоды,
но это моя кровь, а арбуз улетел далеко на тротуар, на мгновение я забываю всё, даже
темноты нет, но также, самым естественным образом через секунду всё вспоминаю и
никакой тревоги, никакого страха, даже любви не хочется. Это свобода? Но, в ясности
падения, остановившего мой дерьмовый поток мыслей, успеваю осознать очень чётко:
никакая это не свобода, но любовь есть, где-то глубоко, подо дном бурной реки
помоев, которую я называю своим мышлением и чувствами, и мне не хочется быть ни
трезвым, ни пьяным, хотя я не понимаю даже, протрезвел я или всё ещё
невразумительно пьян, в голове моей как колесо кружится какая-то ясность, которая не
пахнет хлоркой, вообще ничем не пахнет, или пахнет космическим латте всего сущего,
как капсула, из которой можно было бы сварить всё сущее.
— Я проснулся в пещере?
— Нет, ты ещё не проснулся в пещере. Ты ещё далеко, мы пока отвадили тебя от
пещеры, мы вернули тебя назад, к кофейным аппаратам на ночных ереванских улицах,
подальше от моря, т.е. от нашей ласки, к которой ты присосался, как младенец,
жадный, безумный моресосущий младенец. Теперь подойди к этому армянскому
изобретению — в нём есть капсулы, что оно может сварить для тебя, для твоей
бодрости? Пещера же не стала дальше от тебя, пойми, мы никогда не наказываем.
Я просыпаюсь, когда уже снова темнеет, варю себе кофе и смотрю, как испаряется свет
— безнадëжное зрелище. Мама сетует: ты совсем перестал писать о политике, она
считает, кажется, что это почти что долг эмигранта — писать о политике, о надежде
для тех, кто остался в России, но разве всё, что я пишу — не политика? Я вспоминаю,
как прошлым вечером я прибился к сборищу поэтов-эмигрантов, устроивших свой
шабаш в моём любимом баре, почти все они по отдельности не вызывали во мне
никаких особых чувств, но вместе, о, вместе они казались мне грудой опарышей на
треснувшем трупе кого-то, в кого я когда-то был влюблён, тогда зачем я прибился к
ним, слушал их, ждал, что кто-нибудь заговорит со мной? “Ответь мне на один вопрос,
— начала Лена, Лена мне даже нравится, всегда нравилась в том, что она делала — перформансах, стихах, не всегда — в мыслях, взрослая, красивая женщина, десять
лет назад подобравшая юного, немытого и уже отвергнутого сообществом за
моральный релятивизм и почти сиротскую назойливость поэта с улиц Петербурга,
когда я бродяжничал и не находил ни одного сочувствующего лица, даже со скамеек
меня прогоняли, накормила, напоила вином, говорила сквозь ночь, проанализировала
мои сны, предложила секс, но я отказался, сказал, что люблю свою жену (я уже и ещё
был женат), а потом жалел, потому что это была в общем-то ложь, в том смысле, что
ведь всё равно изменял, и потом я много думал, каким бы был наш секс с Леной, если
бы я согласился, но потом перестал думать об этом, — ты действительно плохой
человек, или это просто литература?” Но разве я не есть литература? “Почему ты не
писала мне весь этот месяц?” — “У меня вызвало отвращение это выворачивание
грязного белья под соусом литературности и этот образ, к которому ты имеешь
косвенное отношение, в общем, я заметила какую-то фальшь… а может я ошиблась?”
Всё это испаряется как свет, причинность, почему я вернулся сюда? По своей доброй
воле, ради женщины, ради какой-то нарисованной судьбы, или я просто присваиваю
себе политику Бога? “То, что законно, всегда будет происходить” — ответил я.
Зейнеп прислала мне фотографию её комнаты — на стене, где я вывел
каллиграфическим кольцом строчку из Введенского: “мне жалко, что я не зверь”, она
повесила, прикрыв стих, огромный гобелен с сидящим демоном Врубеля. Когда я
только начал свою практику радикальной правды (которая будто и не уменьшила
количество лжи в моей жизни, а может в этом и не было цели), я постоянно испытывал
боль, которую причиняли мне последствия исправления моей лжи, и Зейнеп тогда
говорила на балконе, где мы курили в компании летучих мышей: “ты похож на
сидящего демона Врубеля, грустный и сильный”, а потом она снова и снова
цитировала мне вопрос Люцифера: “зачем ты сотворил меня из огня”, а однажды, я
переадресовал ей этот вопрос и она ответила за Бога: “потому что ты хотел этого”.
“Ты уже настроил себе каких-то планов?” — “Мне хотелось бы проснуться в пещере,
вот и всё чего бы мне хотелось. Может мне следует заранее начать изучение языка…
На каком языке ты заговоришь со мной, возлюбленный мой?”__
Некод Зингер: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 09.03.2025 at 00:01Поздним вечером, совершенно измученный бесконечно срывавшимися попытками «легко и удобно, в один момент» заплатить онлайн муниципальный налог, я повелел себе отрешиться от удручающей действительности и не смотреть новостные сайты. Жизнь не имеет права сводиться к текущим событиям.
– Похвальное решение, – поддержал меня Портрет. – Вместо всех этих глупостей, ты мог бы, пожалуй, уважить старого друга. Да… И чем забавляться словесным рондо, размял бы подагрические пальчики, взялся бы, наконец, за кисть и написал его портрет в какой-нибудь достойной манере.
Портрет портрета… Оригинальная идея, ничего не скажешь!
– Но, видишь ли, Моцарт, именно в форме словесного рондо, кружа по кабинету профессора Зингера, я его уже, в некоторой степени, и написал. Словами.
– Ты просто ленишься возиться с холстами и красками. Ну хорошо… Если про меня ты всё уже написал или, во всяком случае, пребываешь в этом заблуждении, то мог бы, смотрясь в зеркало или, напротив, закрыв глаза, попытаться набросать свой собственный портрет.
– Это еще зачем? В назидание потомкам?
– Или как предостережение…
– Ну, автопортретов я в своей жизни намалевал довольно много. Этот жанр завораживал меня с детства. Перелистывая иностранные альбомы по искусству, я всякий раз радовался, на ткнувшись на önarckép, autorittrato, Selbstbildnis, vlastní podobizna. В самих этих словах мне слышалось что-то невероятно притягательное. Ну а потом… Если помнишь, была у меня даже большая серия собственных физиономий, представленных в паре десятков самых разнообразных индивидуальных стилей, от Кривелли и Босха до Клее и Филонова. Видимо, сказалась детская любовь к переодеваниям.
А уж в зеркало-то смотреться… Нет, не сегодня, конечно, а тогда, в Новосибирске. Сегодня-то отнюдь не каждый день в зеркало заглянешь… Разве что изредка… Но не просто так, чтобы усы подровнять или проверить, какая дрянь в глаз попала, а чтобы рожу какую-нибудь состроить, чуть-чуть покривляться. Я тогда кривлялся отчаянно, бесшабашно, до самозабвения. То вертелся, то застывал надолго в невероятных позах. Со-зерцанием занимался. Бабушка меня называла «Мартышка и очки». Это было счастье. Счастье, Моцарт! Да что я тебе рассказываю, ты сам знаешь. Черномор, Миледи, Цыганский барон, Никулин-Вицин-Моргунов, Пиковая дама, Солоха, Пастушка гусей, Генерал Топтыгин, Крошка Мук, Китаёза, Святой Себастьян, Святой Антоний… Знаешь, и сам превращаешься вдруг во что-то невыносимое – от смешного до жуткого один скок – и еще из-за спины в зеркале выползает всё то, что только воображается, весь тот Хертогенбосх, тот Шварцвальд, который, до поры до времени скрывался, молчал, выдавая себя только намеками, затаившись под кроватью, на антресолях, сжавшись в сортире или плотно прилипнув к этой зеркальной двери шкафа с оборотной стороны. Виденье гробовое… Шкаф превращается в гроб. Никогда больше не отважусь залезть в него! Как я мог только что рыться в нем, подбирая «детали туалета» и не замечая фосфоресцирующих в темноте костей! Никогда, никогда больше! А назавтра – опять, как наркоман или картежник. И совершенно невозможно отделить себя самого от затягивающего отражения всего что снаружи и внутри…
Знаешь, я некоторое время носился с идеей, так и не реализованной, как бо́льшая часть идей. Она заключалась в том, чтобы разработать новый подход к классическому портретному жанру, обнажив, так сказать, прием. Попытаюсь объяснить тебе это наглядно. Вообрази, к примеру, что из знаменитого портрета супругов Арнольфини Ян Ван Эйк вынул сами фигуры счастливых супругов, а заодно и всё отражение в зеркале, где он, как считают, кроме супружеских тылов изобразил и самого себя, приписав «Johannes de Eyck fuit hic».* То ли выбелил, то ли зачернил в конце работы, то ли вообще не заполнял эти шаблоны никакими частностями. Перед нами, таким образом, двойной портрет, состоящий из восхитительно написанного интерьера с выдавленными, вырезанными, выставленными из него прочь персонажами. Не стал ли он в таком виде куда более совершенным портретом?
– Трудно сказать. Но это, признаюсь, занятно…
– Вот именно: занятно, в то время как практикуемый до сего дня портрет, всякий портрет с тщательно выписанными или обобщенными, или экспрессивно накрученными и смазанными чертами лица, давно исчерпал все возможности занять наше внимание тайнами того, что скрыто за так называемым внешним обликом. От этого внешнего облика могут сохраниться пара-тройка особенно характерных деталей абриса – какой-нибудь специфический чубчик, покатые плечи или оттопыренные уши. Но и это не обязательно, пожалуй, даже несколько ослабляет прием. Поэтому тут совершенно неуместны любые изображения объекта в профиль, которые возвратили бы нас к хорошо знакомому тебе жанру портретного силуэта, ничего общего не имеющего с тем, о чем мы говорим. Для нашего метода длина и форма носа, подбородка, очертания рта, высота и наклон лба не имеют ровным счетом никакого значения.
– Длина носа, Liebchen, чаще всего безбожно преувеличивается, а форма утрируется без зазрения совести, – ворчливо заметил Портрет. – И не спорь, пожалуйста! Любители гротеска за чужой счет называют это «выявлением характерных черт». Это не смешно, Schoßkind, это трагично. Да-да, нечего ухмыляться! Именно за отсутствие этих Charakteristische Merkmale, превращающих образ несчастного композитора в карикатуру, я особенно ценю свое изображение и за это благодарен скромному работяге Карлу Егеру.
– А я, признаться, люблю длинные носы, Моцарт. Ни себе никогда не скупился на нос, ни своим персонажам. Заказчики иллюстраций меня даже специально просили, так сказать, держать себя в руках, чтобы нас не обвинили в использовании антисемитских клише. Но мы уходим в сторону от темы обсуждения. Лучше вернемся к жанру портрета без внутренней внешности, скрытой внутри внешней внутренности, которая его очерчивает, окружает и формирует…
– По-моему, ты снова увлекся своими словесными коленцами.
– Нет-нет, я как раз стараюсь быть как можно ближе к картинке… Настолько, насколько это возможно, когда имеешь дело со словами. Но вот… Я хотел сказать, что мы это в значительной степени то, что нас окружает. Вернее, то, что мы выбираем из окружающего нас. И чем больше оттенков и деталей мы замечаем в нашем окружении, тем выразительнее наши скрытые от глаз физиономии…
– Я бы уточнил: чем разборчивее мы в выборе, тем своеобразнее наши черты…
– Ты, конечно, можешь сказать, что платье портретируемого – это тоже часть тщательного отобранного окружения, той самой рамки, из которой выступает или в которую проваливается тайна персоны.
– Могу сказать, но могу и промолчать, – в голосе Портрета послышалась обида. – Ты прекрасно знаешь, что меня принято упрекать в повышенном внимании к пряжкам на туфлях и при всяком удобном случае упоминать о том, что умиравший в нищете композитор имел в своем шкафу шесть кафтанов: белый, красный черный, бежевый, синий и шоколадный…
– Хорошо, пойдем тебе навстречу: оставим костюмы на месте и сотрем только участки живого тела – лица и руки. Давным-давно я скопировал портрет супруги Яна Ван Эйка, почтенной Маргариты, оставив вместо лица, рогатой прически и кистей рук чистый лист бумаги. Сейчас у меня его нет под рукой, но представь себе, что мы видим?
– Der Teufel!
– Вот именно. Зияние невыразимого лика, хоть и не лишенного легко узнаваемого контура, оставляет широкий простор для трактовок. Но всё же, одежда гораздо чаще представляет собой скорее игровую, чем сущностную составляющую личности. По крайней мере в детстве я готов был рядиться в какие угодно наряды – чем разнообразнее и невероятнее, тем лучше. Возвращаясь к тому, о чем мы вспоминали, это больше похоже на раму, отделяющую тебя от комнаты, создающей твой подлинный портрет. Она могла быть какой угодно…
– Она не могла быть какой угодно. Нет, она не могла быть какой угодно, не морочь мне голову! Но всё прочее, о чем ты говоришь, очень забавно, Schätzchen. Полная противоположность тому, что так занимало старика Дюрера, так любившего изображать себя в голом виде на чистом листе бумаги, без какого-либо вещественного окружения. Помнишь тот его автопортрет, нарисованный пером и кистью, где единственный внешний покров – это сеточка для волос на голове, видимо для того, чтобы кудри не отвлекали внимания от пронзительного пытливого взгляда художника нового типа, а заодно и от смело очерченного причинного места. И еще тот, который он отправил своему доктору, приписав сверху: ”Do der gelb Fleck ist und mit dem Finger drawff, do ist mir we”.** Помнишь? А ведь можно было по наивности подумать, что речь идет о Йезусе, указывающем на рану от копья. Ведь он изображал себя в этой роли еще по крайней мере дважды, причем один рисунок представляет Йезуса-мертвеца.
– Видимо, доктор не смог подобрать для него достаточно действующего обезболивающего. Кстати, Дюреру тогда было тридцать три. Но у того поколения вообще была странная тяга к кадавру Спасителя. Чего стоит хотя бы написанный примерно в те же годы мертвый Христос Хольбайна младшего, тот самый, что так заворожил Федора Михайловича Достоевского! Анна Григорьевна вспоминала, что болезного так тянуло рассмотреть этот полуразложившийся труп в мельчайших деталях, что он ради этого даже залез с ногами на стул. Ну, черт с ним! Мы ведь о Дюреровских автопортретах. Самый поздний, в виде Vir dolorum*** – на мой взгляд, самый слабый: физиономия брезгливая, скорее одутловатая, чем одухотворенная, торс в меру упитанного мужчины, плетка и связка розог в руках ощущения боли не вызывают… Ты знаешь, пожалуй, больше всего мне нравится его самый ранний автопортрет – нарисованный серебряным штифтом тринадцатилетний мальчик с пальчиком. А зачаровывает он меня тем, что самое главное в нем находится за пределами изображенного. На что, спрашивается, указывает пальчик? Может быть, у мальчишки болит не внутри, не снаружи, а где-то в одному ему видимой дали? Может быть, то, на что он указывает вовсе не так далеко, но просто неразличимо для постороннего взгляда из-за тяжелой завесы белого бумажного тумана?
– Ну, это ты уже не о Дюрере, а о себе. Великий мастер наводить туман и прятаться в чужих физиономиях…
– Наверное ты прав, Моцарт. Это идеальная среда моего Adoleszenz, идеальная сфера автопортрета художника в юности, рамка для Bewusstseinsstrom.**** Только моя белая мгла – отнюдь не муть Германии туманной и не дымка туманного Альбиона, хоть временами и имеет обыкновение прикидываться ими. На самом деле, это самая настоящая снежная пурга. Вокруг меня снежный пейзаж – белое безмолвие на всех направлениях, осыпающиеся кромки лыжни, бесцветное снежное небо, в лучшем случае, какие-то отдаленные белесые перелески. Сосны? Ели? Кедры? Нет, скорее пальмы, согнувшиеся под снегом. И всего-то три-четыре деревца, не больше. Но очень гордые, как положено детям пустыни. Эквивалент ближневосточного оазиса, привидевшегося в тяжелом послеполуденном сне хвойной рощице, в духе нашего доброго друга, любителя зимних сказок и прогулок по Гарцу. Такое вот Naïveté, Nativité,***** если угодно… Из тяжелого западносибирского плена бредут-грядут гренадеры.
– Ты уверен, что это снег, а не песок?
– Да в чем тут можно быть уверенным! Не удивлюсь, если окажется, что это манка небесная, наваленная Творцом без соблюдения меры. Вот еще одна деталь автопортрета художника в раннем детстве: манная каша после горячей ванны посреди белой западносибирской зимы. Манная каша, сваренная круто, и при том без комков. Поверх лилейной массы горячего, слегка крупитчатого снега – ложка «витамина» из черной смородины, словно сгусток темной крови мученика, пролитой за папу, за маму…
– Да брось, тебя-то уговаривать не приходилось!
– Ну да, всё как раз наоборот: обещаниями манной каши меня заманивали в ванну. О, манная каша – антитеза снежков, которыми там, на дворе, напитали, набили рот мой скверные Андрюшка с Тимошкой, ждавшие в засаде за бетонной будкой, где вход в бомбоубежище! Кокто с его «Кровью поэта», которую я впервые увидел четверть века спустя, был лишен этого сладкого утешения. А как давно я не брал в рот манной каши! И не имею ни малейшего желания – вот что удивительно. Но ведь и весь народ наш, чуть повзрослев за три тысячелетия, уже не просит манны с неба…
Знаешь, я в детстве был такой обжора, что дома меня прозвали «Перпетуум Жрабиле». Я сейчас подумал, что мог бы составить портрет того дитяти-чревоугодника из окружавшей его питательной среды. Можно было бы даже слепить и саму его персону из этой жратвы, на манер Арчимбольдо, но мы не стремимся к карикатуре и будем придерживаться выбранного принципа. Итак, что же меня формировало?
– Mozartkugeln?
– Ты же прекрасно знаешь, что ни о чем подобном я в те годы не имел ни малейшего представления. Постой-постой! Первое, что проступает перед моим мысленным взором сквозь белую пелену снежной пустыни – пирамиды картонных пакетов с млеком и кефиром. Помнишь, был, среди прочего, кефир «Таллинский», особенно жидкий. У нас его называли не иначе как «Сталинский». Следом…
А знаешь, не буду я писать свой портрет в этом ключе! Вовсе это на меня не похоже. К фламандцам я относился спокойно, но… Было несколько известных русских картин, которые я почему-то люто ненавидел: обе «Снеди московские» Машкова: «Хлебы» и «Мясо, дичь», «Портрет Алексея Николаевича Толстого в гостях у художника» Кончаловского, «Купчиха за чаем» Кустодиева, «Чай с калачами» Стожарова. Не удивительно ли это отвращение к изобилию у юного Гаргантюа? Видимо, желудок отдельно, а эстетика отдельно. Ведь я обожал тощую «Селедку» Петрова-Водкина. В ней жемчужное сияние оттенков идеальным образом гармонировало с лапидарной фамилией автора. Эта селедка всегда возникает передо мной, когда я оказываюсь вблизи свежей масляной краски. Запах скипидара идеально сочетается и с Петровым, и с Водкиным. Водка тогда была абстракцией, я ее и не нюхал, как и полагается детям до шестнадцати. Зато она резко ударяет в нос впоследствии, в те редкие минуты, когда мгла рассеивается и над белыми сугробами сияет солнце. Впрочем, я увлекся. Чей это портрет – мой или Кузьмы Сергеевича?
Словосочетание «Кузьма Сергеевич» вообще звучит недостоверно. Художник не должен быть Кузьмой. Козимо – еще куда ни шло. Сантехник Прохор – это в точку. Тяжелое харканье, кислый перегар «плодово-выгодного».
Нет, пожалуй, все-таки один автопортрет в обрамлении застольного натюрморта, вырисовывается вполне явственно: новогодний стол в Новосибирске тех еще лет. Он ломится от всего того, чего не было на нем в течение прошедшего года и конечно не будет в наступившем. Ломится настолько, что его понадобилось не только раздвинуть, но еще и приставить к нему дополнительный столик. Скатерть, конечно, бела, как снег, а винные пятна от «Узбекистона» не выведешь с нее никакой солью. Этот «Узбекистон», заранее купленный дядей Юрой в вагоне-ресторане поезда «Москва-Пекин» во время получасовой стоянки на первом пути Новосибирска Главного, перелит в белого фарфорового петуха с подтекающим разинутым клювом. Ну вот, хватит, наверное, одной этой детали. И, конечно, имена, имена… Прислушайся, Моцарт: я зажат в тесным кольце, справа и слева – Дядя Юра, Фанни Моисеевна и Слава, Регина, Хельга, Тоня и Тюня, моя невеста Валентина Васильевна, Верочка Николаевна и Михаил Станиславович, Лера, Жора, Стас, две Кларочки… А если выйти из-за новогоднего стола в так называемый «большой мир», сразу окажешься посреди снеговорота бесчисленных улиц и мелькающих в них лиц знакомых и незнакомых людей, их жестов, походок, ужимок, гримас…
– И всё это – ты, Schätzchen?
– Конечно, Моцарт! А как же иначе?
– Mania grandiosa, Der Größenwahn, на манер Луи Каторза, вот что это такое!
– Ничего подобного, Моцарт! Совсем напротив: я такой маленький, что почти и не заметен между багроволиким сапожником дядей Симой, лысым часовщиком Фиделем, Апостолом Павлом из венгерского альбома и депрессивным семейством вежливого милиционера Сакунова. Все они, если хочешь, – авторы Некода Зингера. А тот затесался между ними едва различимым просветом или черной дырой.
Но это только видимая среда, несравнимо менее разнообразная, чем сфера звуков. Голоса наполняют пространство, лепят и дробят его вокруг меня: скрип сапог на снегу, отрывочные фразы, чирканье спичек, болтовня. Может быть, твой гений и способен был бы на такой портрет художника в высоком стиле, но моих способностей хватает разве что на легкие наброски: Чаплыгинские фразы, фразы из консерваторского общежития, с Затулинки, бла-бла-бласфера средней школы номер 10…
– А как же любимые пластинки?
– Да-да, конечно! Потом, в твоем, лучшем, мире, наверное, не останется ничего кроме музыки и пронзительно звенящей тишины, смолкнет цоканье часов, заткнутся Игорь Кириллов и Нонна Бодрова… Но сейчас звуковой автопортрет по большей части состоит из того, что многие сочли бы просто шумами: голоса птиц в природе, радиоголоса, голос из-за стенки: Стерьва ты эдакая стерь-ва ты эээдакая-ааа – Ася мудрая женщина, она во всем этом прекрасно разберется – А мир побидт-побдит войну. Сопение в водопроводных трубах. Верочка Николаевна, не юродствуйте! Рюбиль пэдисят! Двэ рублиии! И вам скажу без лишних слов, что наилучший мой улов… Я хочу, чтобы у меня был свой угол! В моем доме четыре угла и все они твои. Санников без головой – Девки-бляди, я ваш дядя – Пшшшшшшшш (чайник выкипел на плиту) – Меняю Цюрупу на Блудного сына или Кающуюся Магдалину. Ты что, совсем оборзел, Лапшонок?! Сам ты цюрупа! – Цзинн-цзинн (Трамвай позванивает у поликлиники. По ком он позванивает? По тебе, дорогой, не задавай глупых вопросов) – Кхе-кхк-кхе! – Трррррр! Тррррр! Тррррр! (Звонок телефона в средней комнате. Тоже по тебе) – Алё! Алё? Это кто? Перезвоните, не слышно – Крри-кви! Куок-куок? (На Зубовском каждый шаг сопровождается то мажорным, то минорным скрипом половиц) – Дыг-дыг-дыгоэээ, дыг-дыгоэээ, дыг-дыг-дыгоэээ (Поезд товарняк в несколько десятков вагонов) …
Ну вот, прямо тут же, заслышав его громыхание, переключаемся со звуков на запахи. Товарняк под обрывом пахнет совсем иначе, чем «Сибиряк» на перроне Главного, когда портретируемый карабкается вверх по ступенькам. Вагон пахнет остывшей буржуйкой, тамбур – промерзшим угольным складом, из купе проводницы веет кожзаменителем и Красной Москвой, а наше купе встречает граждан пассажиров химической атакой средней силы, но на вторые сутки в нем воцаряется запах овощебазы. Бенгальский огонь пахнет преисподней. Зоопарк пахнет зоопарком, но малый зимний павильон – курятником. У нас на Коммунистической великая побелка: запах гашеной извести, малярских самокруток и пота. Маляры объясняют начинающему художнику: для того, чтобы побелка была белой, в нее надо добавлять синьку. Синька, похоже, не пахнет. Я три года подряд хожу плавать в бассейн «Динамо» и насквозь провонял отвратительной хлоркой. Два соседних подъезда на Чаплыгина пахнут по-разному. Каждый этаж в нашем подъезде пахнет иначе. На первом мочатся, на втором – распивают из горла и время от времени блюют, на третьем Киреевы покрасили дверь нитрокраской. Подвал пахнет кладбищем. Кладбище – поганками и горелой листвой. Стоп! Давай попробуем!
Итак, «Автопортрет юного художника на Заельцовском кладбище», начало 70-х годов 20-го века, смешанная техника…
– Nein, nein, nein! – резко прервал меня Портрет, – Мы это ужо прохаживали! „An der Casse sind Billets zu haben“.****** Ты, похоже, исписался, Schosskind, сам не помнишь своих сочинений, а нового ничего не придумал.
Я хотел было обидеться, но вовремя спохватился, поняв, что он, в общем-то, прав. Что же делать? Можно, конечно, посоветоваться с ИИшей. Нам ли не знать, что даже из самого тривиального китча иногда может вырасти нечто оригинальное.
Внук Людмирской Девственницы моментально явился по вызову и, не требуя регистрации и пароля, застрочил:
– Nekoda Singer (Некода Зингер, נקודא זינגר) emerges as a multifaceted figure in contemporary art and literature. Born in 1960 in Novosibirsk, Russia, and later settling in Jerusalem…
– Художественные и литературные изыскания Зингера отражают тонкое внимание к деталям и глубокое интеллектуальное любопытство, – невозмутимо продолжал ИИша. – Его работы, как визуальные, так и текстовые, передают сущность наблюдателя — летописца абсурдов, красоты и противоречий жизни. Его способность перемещаться между разными дисциплинами и языками делает его уникальной фигурой в мире современного искусства и литературы.
Вы хотели бы более сфокусированный портрет, возможно, с акцентом на конкретные темы его творчества или литературный стиль?
– Да, пожалуйста.
– Некод Зингер: Портрет художника и литератора.
Жизнь между мирами.
Некод Зингер — мультимедийный художник, не поддающийся однозначной классификации. Он существует на стыке культур, языков и художественных направлений. Его работы отражают интеллектуальное беспокойство, стремление исследовать пересечения искусства и языка, традиции и современности. Творчество Зингера питается фундаментальным любопытством к миру. Он — наблюдатель противоречий: юмора в трагедии, структуры в хаосе, диалога между прошлым и будущим.
Вы хотели бы выделить какие-то аспекты подробнее?
Я искоса взглянул на Портрет и, обнаружив в его подвижных чертах явные признаки растущего сарказма, быстро написал:
– Проанализируй его духовную связь с Вольфгангом Амадеем Моцартом.
– Духовная и художественная связь Некода Зингера с Моцартом
Моцартовская чувствительность в творчестве Зингера
Музыка Моцарта, часто воспринимаемая как естественная и лёгкая, скрывает за этой видимой простотой сложность, за игривостью — интеллектуальную строгость. В творчестве Зингера присутствует тот же парадокс. Его проза несёт в себе особое чувство юмора, напоминающее моцартовское: острое, но человечное, ироничное, но не циничное. Его стиль, как и музыкальный язык Моцарта, подчиняется строгой структуре, но кажется свободным, способным легко переходить от комической абсурдности к глубокой рефлексии.
Так же и живопись Зингера обладает музыкальностью — ритмикой форм и цветов, перекликающихся с динамической энергией моцартовского звучания. Его картины напоминают контрапункт, где визуальные элементы вступают в диалог, подобно голосам в опере или симфонии Моцарта.
Театральность и человечность
Подобно Моцарту, Зингер обладает сильным театральным инстинктом. Его картины часто напоминают сцены, разыгрывающиеся перед зрителем, подобно миру Волшебной флейты или Похищения из Сераля.
Дух свободы и игры – диалог сквозь время
Одна из главных черт Моцарта — его способность вплетать игру в ткань серьёзного искусства. У Зингера тоже присутствует этот элемент импровизации. Но эта свобода — не легкомыслие, а высшая форма дисциплины, доведённого до совершенства мастерства. И для Зингера, и для Моцарта искусство — не застывший монумент, а живое, дышащее явление, которое приглашает зрителя и слушателя не просто наблюдать, но участвовать в танце смыслов.
– Он закончил, наконец? – Поинтересовался Портрет. – Теперь, сделай одолжение, напиши ему от меня: «Совершеннейшая сладенькая благонамеренная чушь».
– Ты слишком многого от него требуешь, Моцарт. Он же искусственный! Зато держит в голове кучу всяких фактов и умеет их аранжировать. Но что уж тут поделать! Видимо, нам с тобой в веках не висеть почти что рядом… Сейчас попробуем немного подправить:
– Теперь, пожалуйста, назови вкратце несколько отрицательных черт творческой личности Зингера.
– Интеллектуальная острота Некода Зингера иногда проявляется в нетерпимости к поверхностности или недостатку точности в искусстве и литературе. Будучи перфекционистом, он предъявляет высокие требования как к себе, так и к другим, что порой создаёт напряжённость, а его ирония может восприниматься как чрезмерная критичность.
– Не понимаю, с чего он это взял, – изумился я. – Похоже, он слишком увлекся и просто перенес на меня то, что собирался сказать о тебе.
– Ха, ха, ха!
– Так или иначе, попытку привлечь милейшего ИИшу к решению нашей задачи приходится признать провалом.
– Вот именно! Искусство не может быть искусственным. Поверь мне – проверено многократно. Also, можешь отпустить этого Besserwisser на покой. Тебе придется решать все твои проблемы самостоятельно.
– Да, конечно…
Мы надолго замолчали.
– Но… вот еще одна попытка, – не вполне уверенно начал я, чувствуя, что это последний шанс осуществить в словах проект, не осуществленный до сих пор в визуальной форме. – «Автопортрет художника зрелых лет в Святой Земле», середина двадцатых…
Но тут же осекся. Кому, Господи прости, может быть интересен этот старый болтун! Он, в первую очередь, совершенно не любопытен мне самому. Если что-то в нем и заслуживает хоть какого-то внимания, то разве что чудом, вопреки жизненной логике, сохранившиеся черты забавного юнца, которого мы с тобой знавали в те далекие времена. Н-да… Не даром же я придумал эту игру в машинку времени, не даром вызвал из прошлого старую любимую литографию…
– Ты совсем неплохо сохранился, – совершенно неожиданно решил подбодрить меня Портрет. – Всё тот же Närrchen, кривляющийся перед зеркалом, нацепив бороду. Скачи, скачи! Чего бы тебе не скакать! Разве кто-то тебе мешает?
– Значит, не всё еще пропало, Моцарт?
– Значит, не всё-о-о, – пропел Портрет и зевнул, давая понять, что на сегодня разговор закончен.
* Ян Ван Эйк был здесь (Лат.)
** «Там, где жёлтое пятно и куда указывает мой палец, там у меня болит». (Нем.)
*** Муж скорбей (Лат.)
**** Отрочество… Поток сознания (Нем.)
***** Наивность, Рождество (Фр.)
****** Билеты можно приобрести в кассе (Нем.)
Меир Иткин: ДЕВЯТЬ СПИСКОВ ПРО МЕНЯ И ДРУГИХ
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 08.03.2025 at 23:59ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО ПАПУ:
1.
Папа ревновал меня к Жене Поливину, который был его полной противоположностью – пил, курил, язвил и был совершеннейшим атеистом. Я каждую пятницу ездил к Жене за книгами. Папу они раздражали, прокуренные, особенно по психологии. Он мне говорил, лучше бы я читал философию. И один раз (единственный раз, когда я был подростком) подарил книгу. Это был «Степной волк», который стал любимым.
2.
Папа любил бегать в лесу, и у него было там любимое дерево. Какое, не помню. Кажется, сосна. Я тогда тоже решил, что у меня должно быть любимое дерево. Это была сосна с длинным носом.
3.
Папа был в Ереване и любил поэзию – больше всего Самойлова и Тарковского. А я в 12 лет купил в букинисте маленькую книжку Мандельштама. Я выучил одно стихотворение, про Ереван, которое заканчивалось:
«Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо.
Я не хочу твоего замороженного винограда».
Рассказал ему и спросил, знает ли он, кто написал. А он равнодушно: «Есенин?»
Я обиделся насмерть.
4.
Когда я был совсем маленький, он привез из Болгарии, где был на конференции, желтый ковер с огромным ворсом. Это был лучший ковёр на свете. Я валялся на нём, представляя, что я в Африке.
5.
Как-то в 13 лет я пошёл в кино на «Историю Пьеры» Марко Феррери. Там была такая эротика, что я взмок. И вдруг, после сеанса, увидел, что он сидит сбоку в первых рядах. Смущению не было предела.
6.
Он ухаживал за бабушкой в деменции и мыл её. Я очень его уважал за это.
7.
В 12 лет я поперся с ним на окраину Новосибирска на собрание кришнаитов. В автобусе я возмущался: «Неужели ты не понимаешь, что картинки там абсолютно безвкусные?» А он мне что-то говорил про то, чтобы я представил существ, живущих в двухмерном мире, а тут раз – и они оказались в трехмерном. Меня это не впечатлило, и от кришнаитских молочных сладостей меня стошнило.
8.
Он подчеркивал предложения в книжках. Больше всего меня приводил в трепет потертый чёрный томик «Критики чистого разума».
9.
Когда мы шли за груздями, он рассказал, как их, студентов, отправили на картошку, а он нашел в сельском ДК пианино и играл там в одиночестве.
10.
В 6 лет я решил стать композитором и от фонаря, произвольно писал ноты, естественно – куча диезов и бемолей, крещендо и, в основном, восьмушки и шестнадцатые. Он безропотно играл.
11.
Я ненавидел, когда он начинал «музицировать» – особенно «Лунную сонату».
12.
У него был чёрный томик Самойлова, а любимое стихотворение там – «Залив». Мне оно понравилось.
13.
Странно, кроме Самойлова и Канта, из его книг я ничего не помню. Ну, «Бхагавад-гиту», чтобы она была неладна. И Григория Сковороду.
14.
Обливание холодной водой из ведра. Порфирий Иванов, который ещё и стихи писал: «Люди в Господа верили, как в Бога, а он сам к ним на землю пришёл. Болезнь, как таковую, прогонит...». Я ржал. «Боже, папа, ты не понимаешь, какая это пошлость?».
15.
Он потрясающе рисовал, нервическими штрихами, очень экспрессивно, людей, которые были рядом. Я очень любил рассматривать его записки с конференций. Там были эти агрессивно заштрихованные человечки. А однажды он нарисовал очень милую лягушку, которая вязала носки – я удивился.
16.
Несмотря на всё свое религиозное смирение, он вдруг очень серьезно подошёл к делу, когда я сел придумывал свою подпись. Сказал, что там должен быть крестик и маленькие буквы. Его почерк был мелким и бисерным.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО СЕКТЫ:
1.
В доме появились невзрачные синие книжонки с названиями «Живая этика», «Письма махатм» – содержимое невнятное, но какие-то строчки подчёркнуты ручкой. Папа ходил на встречи любителей этой белиберды в своей трикотажной синей толстовке. Главной аудиторией были старушки. Откуда они взялись, неясно. Сложно было представить, откуда они взялись. Кажется, они вылупились из яйца уже старушками, говорящими шёпотом: «Елена Ивановна! Николай Константинович! Махатмы».
2.
Эзотерически настроенная публика очень интересовалась здоровым образом жизни. Они обливались водой. Пили мочу. В память врезался заголовок из трактата пророка уринотерапии Джона Армстронга: «Шивамбу – напиток богов». Обязательная «структурированная вода» лежала на балконе в ледяных брусках. Когда она таяла, там почему-то плавали волосы.
3.
Все эти люди мне всегда казались бесконечно пожилыми, но сейчас я понимаю, что старше большей части публики, которую видел. Но были и динозавры – например, седой господин с дворянской фамилией Сперанский из НИИ гигиены, который лечил всех болящих поркой. Метод так и назывался – «поркотерапия».
4.
Большинство обозначенных персонажей были ещё и бардами – очень любили авторскую песню, а ещё романсы, которые они пели, садясь кругом у костерка на Обском море.
5.
«Общество сознания Кришны» в этом винегрете было, пожалуй, наиболее сносным и, в определенном смысле, панковским. Все же для того, чтобы выбрить волосы, оставив нелепую косичку, и ходить, голося «Харе Кришна! Харе Рама!» нужна была определенная смелость, которая компенсировалась, впрочем, стеклянными (или бегающими) глазами и невероятной прилипчивостью. У нас на полке лежали три-четыре книги Шри Шримада А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, половина строк были подчеркнуты. Его книга «Источник вечного наслаждение» у меня моментально ассоциировалась с «Шивамбу – напиток богов».
6.
Белое братство в белых же халатах тоже ходило по улице Ильича, но из-за схожести с призраками казалось несуществующим.
7.
После интервью Анны Сандермоен про секту Столбуна в памяти всплыло ещё одно важное слово – «мещанство», из советского лексикона. Презрение к быту, чистоте и материальным ценностям. Вся эта публика была невероятно высокомерная и алкала духовной жизни. Куда ни плюнь – везде были гениальные педагоги и незаурядные личности. Многозначительные разговоры и не менее многозначительные паузы. Интеллигентные люди.
8.
Одновременно начался массовый исход в Православие, с диким жаргоном из уменьшительных суффиксов: «батюшки» и «на коленочках». Все эти взрослые люди строем пошли строить храмы, ездить к старцам и обросли жуткими нечёсаными бородами.
9.
Были аморфные эзотерические коммуны, собирающиеся на квартирах кучами, раскрывающие чакры, делающие друг другу массажи, трогающие друг друга. Ребенку в этом было находиться очень некомфортно.
Спасением был алкоголь – до поросячьего визга, только чтобы не видеть: портвейн и огуречный лосьон. И книжки. И рок-н-ролл.
10.
Все, что я описываю, весьма банально. Но как страшно представить, что во мне тоже это есть, даже немного. Что вдруг, как Чужой, из тебя вылезет советская духовная личность, особенно когда смотришь на себя как на родителя.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО ХРИСТИАНСТВО:
1.
Мой папа принял православие в 46 лет, потом сошел с ума и разговаривал со своим бесом, который ранее был ангелом и жил над его рабочим столом. Однажды он залаял, как собака, побежал в храм, чтобы из него этого беса изгнали, впал в кататонический ступор, два месяца отлежал в психушке, вышел и отправился в монастырь, но по дороге замёрз в сугробе.
Я это рассказываю совсем не для того, чтобы меня пожалели – в этих заметках мне хочется собрать воедино вариант своей личной мозаики, и написанное выше – просто важный в этом смысле факт.
2.
В 1992 году (16 лет) мне врезалась в память фраза из маленькой книжки Александра Пятигорского «Философия одного переулка»: «Другой их сосед, тоже инженер, Гершенкрон, раз увидел, как шестилетний Ника пытается заглянуть в высокие окна храма Ильи Пророка Обыденского, и строго сказал: «Никочка, не подходи к церкви. Здесь — трупный запах».
Это срезонировало с событием, произошедшим со мной в 3–4 классе. Я нашёл маленький крест со словами «Спаси и сохрани», он показался мне отвратительным, и я выкинул его с балкона 4-го этажа хрущёвки.
3.
В 1989 году, в 13 лет я и мои двоюродные братья срубили огромное дерево на хуторе одной художницы в Эстонии – оно мешало ей смотреть на Пюхтицкий женский монастырь.
4.
В этом же году в дверь нашей квартиры постучали. Я был дома один и открыл дверь. Там стоял мужик с бородой и тётка в платочке. Поинтересовались, дома ли родители. Я вежливо пригласил их выпить чаю и предложил кокос (не помню, откуда в советское время он у нас взялся). Мужик задался вопросом, позволяет ли Библия есть кокосы. Они сели за стол, и мужик сказал: «А теперь будем учить Закон Божий». Ещё через несколько месяцев я крестился в старообрядческой церкви – тоже из вежливости. И любопытства.
5.
Через год мы с папой поехали монастырь (в который он впоследствии так и не дошёл), где жил упомянутый мужик, Игнатий Лапкин. Они вели с папой разговоры – Лапкин был антисемитом, а папа стеснялся, что он еврей. В какой-то момент Лапкин решил меня повеселить и рассказал, как в детстве ловил хомяков и сдирал с них шкурки.
6.
Я неоднократно ходил в старообрядческую церковь, выстаивал там всенощные службы. Тень от алтарных ворот казалась мне похожей на чертика, мне он нравился и помогал стоять всю ночь. Один раз я исповедовался. Меня спросили, курил ли я, пил ли я и блудил ли я. Я вежливо, но разочарованно сказал, что нет. После службы ели овсяный кисель и моченые яблоки – это было недурно.
7.
Параллельно я ходил в костёл, играл на блокфлейте в воскресной школе и влюбился в монашку лет 18 из какой-то африканской страны, мне было 13 или 14. Приходил ради нее. В костёле вообще была очень чувственная атмосфера. Все девушки были без ума от ксендза, литовца отца Пауля, похожего на Микки Рурка. Как-то раз я пришёл в костел и увидел приезжего отца Гвидо, статного итальянца, который курил длинную сигарету. Я был очарован. Там давали гуманитарную помощь (1989 год), и я получил самую красивую в моей жизни куртку, мягкую песочно-оранжевую, с жёлтым отливом.
8.
Как-то раз меня прислали в костел с ведром блинов. Мне было очень стыдно. В подвале толстый монах играл на мандолине. Я отдал блины и больше в костёле не появлялся.
9.
Помню нищих у церкви рядом с цирком.
10.
Смерть папы и рассказы о хомячках не заставили меня ненавидеть христианство. Для меня оно было связано с сигаретой отца Гвидо (свобода, Феллини, я тогда посмотрел «Дорогу» и «Ночи Кабирии»), чудесной курткой и книгой Акселя Мунти «Легенда о Сан-Микеле».
11.
Тем не менее я выкинул свой крест из окна – во второй раз.
12.
В 11 классе я купил в магазине «Наука» книгу «Мистическое богословие» с трактатами псевдо-Дионисия Ареопагита и сборник Мартина Бубера «Два образа веры». На обложке Бубера был Шагал, который был тогда любимым художником, но история про «Я и Ты» показалась похожей на папину шизофрению (или это было потом). Дионисий мне понравился сразу – идея о том, что Бог находится вне дихотомии существования и несуществования звучала разумно.
13. На первом курсе научная руководительница дала мне заниматься рукописной традицией переводов псевдо–Дионисия Ареопагита в 15-18 веках. Я мог бы стать специалистом по его ангельской иерархии, но не стал, хотя защитил диплом и чуть не защитил диссертацию.
14. Бога нет, конечно.
15. Мне не нравится, когда говорят: религия — это интимно. А ещё больше — вера.
16. В Белграде, в соборе святого Фомы я видел икону девы Марии, которая улыбалась.
17. В Венеции долго смотрел на витраж с суперконтрастным сочетанием желтых и фиолетовых стёкол.
18. Я видел несколько готических церквей, переделанных в мечети с зелёными коврами.
19. В соборе пражского Вышеграда я был на концерте светской органной музыки – ее исполняли молодые ребята из консерватории.
20. В Черногории на скале я видел церковь, которую горожане построили, чтобы спасаться от частых набегов пиратов. Но спастись не удалось – пираты грабили, насиловали и убивали.
21. Фамилия одного из семейств в этом городке была Шестокрыловичи.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО КНИЖКИ:
1.
Первое отчётливое впечатление о пространстве закнижного мира – «Горе от ума», которое я прочел в 5 лет. То, что мне представилось, был лабиринт с бесконечным количеством дверей. Люди входили и выходили. Самым главным и абсолютно реальным был сон Софьи:
«Потом пропало все: луга и небеса. —
Мы в темной комнате. Для довершенья чуда
Раскрылся пол — и вы оттуда
Бледны, как смерть, и дыбом волоса!
Тут с громом распахнулись двери
Какие–то не люди и не звери
Нас врознь — и мучили сидевшего со мной.
Он будто мне дороже всех сокровищ,
Хочу к нему — вы тащите с собой:
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ».
В этом коридоре действительно жили чудовища, пространство было искривлённым, как в «Жёлтой подводной лодке», все персонажи – живыми, а фамилия Чацкий – очень красивой.
2.
Я не помню эту детскую книгу, где какие-то разбойники сидели под маленьким мостом. Потом я видел похожих страшилищ на картине Босха – я обожал разглядывать его альбом, и когда во 2 классе нас на рисовании попросили сделать портрет мамы, я нарисовал её с альбомом Босха на коленях.
3.
Со временем я понял, и до сих пор так думаю, что книга должна быть прямоугольной (все эти игры с квадратами и узкими прямоугольниками – от лукавого), а идеальная – в твердой, желательно матерчатой обложке с золотым тиснением: только автор и название.
4.
Мне не нравилось, когда строки в книгах подчеркивали ручкой, но бережные заметки карандашом всегда вызывали симпатию. Карандаш не должен быть мягкий и с нажимом – только тонкие линии и мелкие быстрые буквы.
5.
Один раз, когда я работал со средневековой рукописью 15 века, я прочитал заметку на полях, оставленную переписчиком – он писал, что очень хочет спать. Я находил на полях шифры еретиков, написанные полусловицей, но, к сожалению, так и не смог их расшифровать.
6.
А ещё пять лет – начиная с весны 2019 года и до нынешнего лета – я учил ивриту больного раком дедушку, пожилого сексолога из Челябинска, мы очень подружились, разбирали поэзию Пагиса, Амихая, читали «Книгу Ионы». Специально для него я придумывал учебные стихи и рассказы. Когда он умирал и уже не мог говорить и только разговаривал глазами, я читал ему «Картофельную собаку» Юрия Коваля и показывал картинки из купленной в Праге детской книги Йозефа Чапека. Он едва заметно улыбался. После его смерти ко мне по наследству перешёл томик Мандельштама из «Библиотеки поэта» и двухтомный альбом Сутина.
7.
Больше всего на свете мне жаль, что я потерял, едва купив, монографию Льва Эйдлина о Тао Юань Мине. Успел прочитать пару страниц и забыл в автобусе. Остались только Ли Бо с Ду Фу и Ван Вэй. Отсюда идёт тропка в детство. В 15 лет я с большим усилием (память была не ахти) заучивал китайских поэтов эпохи Тан – летом, в мазанке с соломенной крышей на границе Харьковской и Днепропетровской области, и повторял их, замешивая ногами смесь половы, глины, песка и кизяка. В Сибири, на чердаке, мы пили портвейн, и среди голубиного дерьма я декламировал:
«За чашей вина
Не заметил совсем темноты.
Облетая во сне
Мне усыпали платье цветы
Захмелевший бреду
По луне, отраженной в потоке
Птицы в гнезда летят,
А людей не заметишь здесь ты».
8.
Когда мне исполнилось восемнадцать, стопки книг у героев Сэлинджера со временем стали стопками моих книг, и больше всего я хотел написать свои «Девять рассказов».
9.
А ещё был книжный развал у ДК «Академия». Денег не хватало, но руки тянулись к томам серии «Язык. Семиотика. Культура» и скандинавским сагам. Потом, в 2009 году там же, на тех же бетонных ступенях я устроил глобальную распродажу своей библиотеки. Таким, каким я был когда-то, безденежным – отдавал книги бесплатно, а на вырученные средства полетел в Индию.
10.
Самое нелепое печатное издание, которое я видел – продававшаяся нищими в переходах метро брошюра «Иванов и Рабинович, или ай гоу ту Хайфа», напечатанная на газетной бумаге миллионным тиражом (а вот поди ж ты – и я оказался здесь), а также «Камасутра», которую слепые продавали в электричках (вероятно, главный источник сексуального воспитания для садоводов).
Самое странное из имеющегося в моей библиотеке – Witchcraft and the development of the Black-African, написанная доктором философии Киатезуа Лубанзадио Луялукой, изданная в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. Самое смешное – «Маленькая ночная серенада» Льва Рубинштейна на карточках.
11.
Я издал десяток чужих книг в университетском издательстве, а к одной из них, «Голубой и коричневой книгам» Виттгенштейна сам нарисовал обложку. Вернее, слепил героев Витгенштейна из пластилина.
12.
Самым прекрасным в Публичной библиотеке в Питере был запах кофе, смешивающийся с запахом старых книг и деревянных каталожных полок. Самое прекрасное на выходе из библиотеки Академии наук – ларек с гигантскими лимонными пирогами и гата с орехами.
13.
Прокуренные книги Жени Поливина, которые я брал у него почти каждую субботу с 7 по 11 класс – что-то вроде моего скелета. Однажды я ночевал у него, и на меня упала стопка. Думаю, это метафора, но понятия не имею – чего.
14.
На археографической практике в Тобольске, где я руководил студенческой группой, как-то к нам пришли журналисты. Один из них включил диктофон и задал вопрос: «Что для вас – книга?» До сих пор не знаю, как на него можно ответить.
15.
Когда в экспедиции мы приехали к старообрядцам за старинными рукописями, я краем взгляда увидел, как бабушка прячет книгу и бережно накрывает её одеялом. Во время этой книжной авантюры я приехал к ним вместе с Юлей (в этом году мы познакомились) и представились мужем и женой. Через два с половиной года мы поженились.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО БУДДИЗМ:
1.
В оранжевой книге Щербатского на папиной полке – кажется, он её не читал, по крайней мере, пометок не оставил – были смешные слова, «вайшешики» и «йогочары» (маленькие ваньки-встаньки и янычары с острыми усами и кинжалами – в позе лотоса). Страницы были будто бы грубо отпечатаны на печатной машинке, но самым интересным был концепт дхарм – маленьких мерцающих разноцветных изменчивых штуковинок, из которых состоит весь мир. Эти дхармы была веселее атомов, потому что из них состояло и сознание тоже. Я рассказал о своих впечатлениях папе, когда он сидел в психушке (он послушал с интересом), а потом купил у вокзала «Новосибирск–Главный» газетный кулек с самосадным табаком. Его продал мне дед в старом ватнике, табак у него был в мешке, как семечки у бабки. На привокзальной площади было полно осенней листвы. Хочется сопоставить вонючий деревенский запах козьей ножки с моими подростковыми космологическими изысканиям. И тем, и другим я был горд, но они были, что ли, избыточными.
2.
Одновременно с псевдо-Дионисием Ареопагитом в 11 классе в магазине «Наука» я купил книгу вьетнамца Тхит Ньят Хана, светло-бежевую, в твердой обложке, полностью лишенную мессианского насилия. Внутри этой книги я представил милого пожилого человека, прошедшего вьетнамскую войну, который спокойно шагает по лесу Франции, между корявыми вязами, цветущими вишнями и отсчитывает свои вдохи и выдохи. Я не дочитал ее, но положив на полку, с этого момента знал, что у меня есть друг. Друг-книжка. Такого, кстати, не было с другими книгами.
3.
В это время (конец 80-х – начало 90-х) буддизм был в моде. Рассказывая друг другу чепушиные истории коанов, собеседники загадочно улыбались со знающим видом, добавляя цитатку из БГ и поминая Федора, Максима и Николая. На полках лежали стопки Ричарда Баха и прочего барахла киевского издательства «София». У меня тоже была такая книжка – «Плоть и кости дзен», популярное изложение коанов. Я тоже многозначительно их рассказывал, но, если разобраться, абсурдность коанов для меня не сильно отличалась от «Ивана Топорышкина». На втором семестре университета я экзальтированно заявил, что ухожу в православный монастырь – молиться, поститься и читать Германа Гессе, а потом – с не меньшей важностью – о том, что дзенский юмор спас меня от этой напасти.
4.
Я никогда не любил Пелевина, кроме рассказа «Проблема верволка в средней полосе», но это больше потому, что довольно много ездил автостопом. Рассказ «Тедди» мне кажется самым слабым из «Девяти рассказов» Сэлинджера. Лучшим романом на тему буддизма мне кажется Buddha Da шотландской писательницы Энн Донован (в русском переводе – «Папа-Будда»).
5.
Я помню буддистский центр Карма Кагью в Аскате, громыхание Prodigy, алкогольный угар – полные и пустые бутылки водки, вина и спирта. Я забился в угол и читал оставленного кем-то на деревянных палатях «Тарантула» Боба Дилана.
6.
В 2007 году я пришел с другом на дискотеку буддистов, на которой бодро отплясывал Оле Нидал. Я напился до полного бесчувствия, и в момент, когда чуть пришел в себя, все пошли провожать ламу Оле на вокзал. Я был самый пьяный, и, кажется, блевал на платформе. Лама Оле посмотрел на меня взглядом, полностью лишенным осуждения, очень сосредоточенным, доброжелательным, будто похлопал меня по плечу.
7.
Я полетел в Индию на деньги от продажи половины своей библиотеки. У меня и в мыслях не было совершать «духовное» путешествие – от слова «духовность» меня тошнило всегда, это было очередное бегство, куда глаза глядят, наобум, но чудесное, как у персонажей Эдварда Лира. Однако, когда самолет взлетел, на разворот книги у меня на коленях легла радуга, и оставалась там минут 10, как будто хотела со мной подружиться.
8.
В Индии, на севере, я помогал носить камни на стройке кухни буддистского монастыря. Не выдержал и трех часов.
9.
Там же я оказался около полой ступы, в которой вокруг статуи Будды были развешаны новогодние мигающие гирлянды. Я почувствовал, что мой дом, которого мне не хватало – это я сам, и несколько минут тихо смотрел на огоньки.
10.
Я купил статуэтку Будды. Через несколько лет она упала с моего рабочего стола, и голова отвалилась. Я приклеил голову суперклеем, и повязал шрам красной ленточкой. Год назад я похоронил моего Будду во дворе, в Хайфе, под опавшими листьями эвкалипта.
11.
В Непале монах сидел на скамейке, и играл в игру на телефоне. По экрану летали кирпичики. Я задал ему технический вопрос, что и как надо представлять во время определенной медитации. Он безучастно посмотрел на меня, и сказал, что это не очень важно.
12.
Там же, когда я потерянно бродил рядом с лоджем, я встретил монахиню. Она посмотрела на меня так же, как тогда лама Оле, только ещё более сочувственно. Я её увидел ещё раз в толпе, и она меня узнала.
13.
Я медитировал в пещере Миларепы, без особого толку, а потом вечером накурился в компании каких–то сомнительных личностей, в том числе генерала непальской армии, и на утро хозяин лачуги, где я оказался, дал мне чай, и с усмешкой сказал: «Миларепа!..»
14.
Рядом со ступой Боднатх, в баре «Як» я видел девушку, может быть, проститутку, с закрытыми глазами, головой на столе, посреди пустых банок пива.
15.
Я два раза был на тибетских похоронах, и один раз видел монаха, который шел по горной тропе с четками, и свистел, подражая птицам. Я тоже шел по этой тропе, и встретил собаку, лохматую дворнягу, которая сопровождала и охраняла меня весь день.
16.
Давным-давно мне было досадно от внутренней пустоты, когда я еду в автобусе или иду по улице. Я тогда придумал свою мантру «Мир, радость, свобода всем живым существам» и повторял её, чтобы убить время – подумал, хуже все равно не будет.
17.
Перед переездом в Израиль я полтора года учил тибетский язык. Когда началась война, оказалось, что известные мне российские тибетологи и один индолог поддерживают российскую агрессию. И впоследствии никто из буддистов, кроме калмыцкого ламы, не высказался открыто против России. Впрочем, и среди других религий не было ничего существенного. Все эти люди перед лицом войны оказались (как мне кажется) бесполезными. Равно бесполезными кажутся молящиеся и медитирующие о мире. Впрочем, хуже все равно не будет (см. п. 16)
18.
Древо Прибежища, хотя я уже не медитирую – это тоже скелет моего сознания, как и Женины прокуренные книжки. Это чудесное дерево с гирляндой. У его подножья –прекрасное озеро, и мы все (я, родители и все, кого я знаю и не знаю) стоим перед ним.
19.
В свой последний день перед отлетом из Катманду я пошел проститься со ступой Боднатх, рядом с которой просидел до этого несколько дней, с раннего утра, когда люди со свечками начинали свой медленный обход посолонь. Оказалось, переродился какой-то лама. Везде были рождественские гирлянды, фотографии малыша и старика. Включили запись пения умершего ламы. По тембру это был один в один Леонард Коэн.
20.
Эта подборка не похожа на предыдущие.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО КИНО:
1.
В Амритсаре, столице Пенджаба, 45° жары, идёт дождь. Я, мокрый, иду по улице мимо бетонных стен с огромными полуоторванными постерами киноафиш – по ним бегут струйки, – и ныряю в старый кинотеатр, такое же угловато-бетонное здание, как и все дома вокруг, но с полукруглым козырьком.
Высокие потолки, как в ДК, и у входа в зал – деревянная будочка кассы. За стеклом усатый индиец подаёт мне странные знаки, но я просто сую купюру и захожу в зал, в котором сидят только мужчины. Кресла, как в детстве – старый кожзам; дерево – на нём что-то нацарапано. Открывается занавес и начинается фильм. Парень встречает девушку, они идут по роще, танцуют, среди зрителей нарастает напряжение. Минут через десять девушка снимает кофту, и остается в бюстгальтере с блестками. Мужчины в зале встают, один, второй, третий, и начинают орать. Как на стадионе. Орёт весь зал. Я ретируюсь, ныряю под бархатную штору, кассир пытается схватить меня за руку и что-то говорит. Я не обращаю на него внимания и выхожу из кинотеатра. Это июнь 2009-го.
2.
Восемью годами позже, в декабре, я шел по промозглому Кутузовскому проспекту, мимо нагло-безвкусных небоскребов Москвы-Сити. Был поздний вечер и снег, я свернул в кинотеатр «Пионер», и один в зале смотрел Вендерса, «Прекрасные дни в Аранхуэсе». Разулся, положил ноги на переднее кресло, откинулся назад. Вендерс, наконец, после «Пины» решился на 3D в художественном фильме – где ничего не происходит, кроме разговора двух на летней поляне. В какой-то момент появился музыкальный автомат, Ник Кейв, и я был абсолютно счастлив.
3.
Кинотеатр моего детства – ДК «Академия», я прятался там за занавесом, чтобы остаться на второй сеанс. Мне двенадцать, и я пришёл на английский фильм «Леди Джейн». В зале двое, я и ещё мужчина в правом крыле, на первом ряду. Свет гаснет, и на экране королева подходит к окну. Кто-то кладет мне на колено руку, я леденею от страха, встаю и бегу, мимо афиш, мимо берёз и сосен Морского проспекта. Сейчас я представляю этот бег как фильм, и саундтреком к нему идёт «Леди Джейн» Мика Джаггера.
4.
Говорят, в детском кинотеатре «Калейдоскоп» выступала Янка. Я был там часто, но на Янкином концерте – нет. Однажды я видел, как перед «Калейдоскопом» собралась куча людей в чёрных кожаных куртках и чёрных грязных джинсах. У меня тогда не было ни джинсов, ни куртки, и я был совсем не был похож на панк-рокера – долговязый, в дурацких очках с жёлтыми солнцезащитными стёклами.
5.
Я был во всех кинотеатрах Новосибирска. Вооруженный «Киногазетой» с афишей фильмов во всех районах, я садился на автобус, пересаживался на трамвай, ехал в полную неизвестность, и оказывался в странных старых забытых залах Октябрьского, Дзержинского, Ленинского районов, смотрел французские, индийские, черт его знает какие фильмы (у меня была тетрадь, куда я их все записывал). Иллюзорная реальность кино, вкупе с давностью воспоминаний превращают эти мои передвижения в один большой сон, у которого есть предел – фильм «Змеелов», за которым уже нет вообще ничего, ни времени, ни пространства, только глухая стена с фотографиями актеров.
6.
Этот сон продолжается во всех кинотеатрах, где я был. Я коротаю время в гигантской сталинской высотке на Котельнической – в кинотеатре «Иллюзион», где крутят старые чёрно-белые фильмы, бегу на последний сеанс Гринуэя в «Спартак» на «Чернышевской», потом в Музей кино на «Баррикадной». Я иду с сумкой кассет, записывать фильмы во ВГИК, на Сенную, на Восход, я вижу рисованые афиши на Ильича, прохожу мимо афиш в Клуже, мелькают тени, я сижу дома и всю ночь смотрю «Берлин-Александрплац».
7.
В классе пятом я придумал детектив, в котором играл главную роль сыщика и убийцы одновременно. У меня была белая рубашка и под ней несколько шариков с томатным соком.
8.
В десятом классе, уже после папиной смерти, в школе устроили дискотеку: мальчики стояли на улице, обсуждая тяжёлый металл, SLAYER и NAPALM DEATH, одна одноклассница, пьяная, повисла на мне и предложила танцевать белый танец. Я оттолкнул её и через лес побежал в Дом ученых – на фильм Куросавы «Под стук трамвайных колес». Про мальчика и его отца.
9.
Аки Каурисмяки, Джим Джармуш, Фассбиндер, Хандке и Вендерс, Йос Стеллинг, Сатьяджит и Николас Рэй, «Пробуждение жизни», «Гражданин Кейн» – этот перечень напоминает реплику перед сценой с нелепым танцем из «Простых людей» Хэла Хартли.
10.
В детстве, в Крыму, мы переночевали в спальниках посреди декораций какого-то исторического фильма – в городе из папье-маше и картона.
11.
В Венеции на палубе вапоретто я увидел человека со знакомым лицом. Это был Вим Вендерс. Или, может быть, мне показалось.
12.
Всё это кажется мне намного более странным, чем рай (смайлик).
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО АВТОСТОП (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ):
1.
В 1993 году я переписал у Славы Одаренко кассету с альбомом Умки. Сборник песен с квартирников назывался «Дети цветов» – они были про свободу, добрых маргиналов, которые не то чтобы ломали систему, а скорее жили в параллельном Зазеркалье психоделического рок-н-ролла, насмешливом, вечном, красочном, где нет времени и пространства, такой перманентный побег из реальности на попутках – КАМАЗах, алкоголе, наркотиках и музыке.
2.
По всей России тогда (и раньше тоже – просто я оказался в этом только в начале 1990-х) ходили задачливые молодые люди с длинными волосами, в феньках, рваных джинсах, кожаных жилетках, ковбойских шляпах, жили на вписках, обнимались, разговаривали часами, ездили автостопом, читали книжки. В обязательный набор чтения входили: Кизи, Хармс, Керуак, Тимоти Лири, Ричард Бах, Гессе и Кастанеда. В разных городах возникали и исчезали самиздатовские журналы, самый заметный из которых был «Забриски райдер».
3.
В этом, казалось бы, анархическом мире, как ни странно, была довольно жёсткая система понятий, с обязательной системой ценностей, включая железное деление на «свой – чужой». Кстати, и сама тусовка, как бы идиотски это ни звучало, называлась Система.
Свои назвались «пипл» (они, в свою очередь, делились на «олдовых» и «пионеров»), а чужие – «цивилами». «Цивилов» можно было обманывать, разводить на жалость и деньги, это называлось «аскать». В середине 90–х я таким образом нааскал необходимую для пропитания сумму на Невском проспекте. Грязный, рваный, с волосами по пояс и легендой, вроде «отстал от студенческой группы, потерял все деньги». Сейчас это кажется диким. То же самое касалось попуток – считалось круто и вполне естественно, чтобы водитель грузовика или легковушки накормил тебя за свой счёт в придорожной закусочной или у себя дома. Бартером нужно было рассказывать ему веселые истории, и это порядком задалбывало.
4.
В любом городе встречались такие типажи: статные длинноволосые бородачи с ясным взглядом, в окружении прекрасных спутниц, обладавшие высоко ценимым искусством «гнать телеги» и сакральными знаниями обо всех альбомах и участниках группы X и Y; вечно обдолбанные или пьяные гениальные психопаты; худощавые наркогуру в астрале; занудные прилипалы, живущие на вписках за чужой счёт неделями; девушки, не пропускающие ни одного концерта и множество одиночек – они обычно были самыми симпатичными и интересными.
5.
Вся эта публика была слишком безбашенной и свободолюбивой для сектантства, но кое-какие параллели имелись: мешанина из всех религий, презрение к материальному быту – вши, например, назывались «мустангами», – а ещё довольно часто здесь сквозило высокомерие, в особенности, к «цивилам». Так оно было снаружи, а внутри всё казалось хрустальным, невероятно сложным, странным и красивым – в этой красоте можно было купаться. Изнутри это выглядело ещё так: реальность – лист бумаги, бесцветный и бесконечный во все стороны, но в какой-то момент ты рвешь её и исчезаешь в месте разрыва («В каждом заборе должна быть дырка»).
6.
У меня, как и у многих, были круглые очочки, отчего все КАМАЗисты называли меня в них Джоном Ленноном, а без них Иисусом Христом. Был и совсем никуда не годный вариант – Григорий Лепс, – но я его отсекал на корню.
7.
Были и молодые люди с блокфлейтами, кстати.
8.
У нас в Новосибирске, впрочем, хиппи обретались в малых количествах – слишком холодно. В основном, панки. Угрюмые и пьяные. И разговоры постоянно шли о тошноте, суициде, красноармейце, трактористе и кузнеце:
«Красноармеец – трактористу:
Я защищаю СССР.
Ты управляешь трактором.
А он, кузнец, кует железо».
Как–то так.
9.
Но это всё теория. На практике каждый выбирал свою дырку в заборе. Моё бегство заключалось в бессмысленном и беспощадном автостопе.
10.
Нормальный хиппи отправляется в путешествие, чтобы оказаться в пункте Б, затусоваться и, так сказать, завести друзей. Я же ехал хрен знает зачем, чтобы оказаться хрен знает где с неясной перспективой возвращения.
11.
Пример: я просыпаюсь среди пустых бутылок на кухне, где также отдыхает милый человек Том, похожий на Мика Джаггера. Я говорю: Том, хочешь свалить отсюда? Но Том не хочет, он отдыхает. Я беру атлас Новосибирской области, открываю и вижу среди озер маленькую точку с названием Зюзя. Через 5 минут я готов. В дождь сажусь в электричку в Барабинском направлении, выхожу на станции Х и ищу площадь Ленина. Не просто так. Дело в том, что у нас в Сибири есть такое понятие – Московский тракт, то есть дорога, которая тянется на тысячи километров из Дальнего Востока в сторону Москвы. На площади Ленина – как правило – стоит Ленин в кепке. И показывает рукой в направлении Московского тракта. Вот поэтому я и отправился искать площадь Ленина.
12.
Ленин не обманывает меня и показывает рукой куда надо. С замотанной шарфом головой, как наполеоновский солдат, я стою на трассе в ожидании попутки.
13.
Главная наука здесь – где именно стать, вторая важная вещь – контакт с водителем, глаза в глаза. Через десять минут останавливается дачник, мы общаемся с ним на тему урожая, и он высаживает меня у кованых ворот психоневрологического диспансера. Чтобы срезать, я иду через его территорию, и вдруг вижу невероятную картину. В диспансере множество окон, около каждого из них стоят люди и радостно машут мне рукой. Похмелье снимает, как рукой. Я не верю своим глазам и машу им в ответ. Это вызывает недоумение у сторожа, мы курим с ним у будочки, и он рассказывает, что, оказывается, в диспансере сегодня день мойки окон.
14.
Я сажусь на КАМАЗ до Барабинска. Дождь хлещет в лобовое стекло, мы несколько часов молча слушаем «Назарет», потом он жалуется на свою любовницу. От Новосибирска до Зюзи 350 километров, и я уже проделал больше 250-ти. За окном степь, и начинает смеркаться.
15.
Из Барабинска до Зюзи я еду в кузове грузовичка с сеном. Темно, вокруг мерцают озера. В Зюзе никого нет. Как мне объясняет старушка, вся молодежь «уехала в город (Барабинск) на дискотеку». Я выхожу на околицу и иду навстречу луне, захожу в пролесок, вынимаю из рюкзака полиэтиленовую трубу и засовываю туда спальник. Глаза слипаются, я засыпаю. В полусне чувствую: что–то не так. Меня лижут. Открываю глаза и вижу над собой огромную морду лошади.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО АВТОСТОП (ЧАСТЬ ВТОРАЯ):
1.
Небо над трассой высокое и широкое. Я еду из Питера в Москву на молоковозе, кабина свежевыкрашена в голубой. У водителя, круглолицего парня лет тридцати, набриолиненные и зачёсанные назад волосы. Он небрежно распахивает бардачок и довольно спрашивает: «Ну что? Рэй Чарльз? Отис Рединг? Би Би Кинг?» Высадил у Вышнего Волочка.
2.
Еду, стоя на россыпях угля, в открытом товарном вагоне. Как тень, запрыгнул туда поздним вечером на полустанке. Но ошибся. Поезд через несколько часов оказался у тупика. Я шёл по улице опустевшего уральского городка с головой ватной, как после плача. Очень хотелось есть. Я постучался в местное отделение милиции и сказал: «Я сдаюсь». Переночевал в пустом обезьяннике – мне дали матрас и подушку.
3.
Прошел сквозь весь Челябинск, набивая рот ягодами боярышника. Украл яблоко. Подобрал с асфальта овсяное печенье. Вечером дальнобойщик угостил меня в придорожном кафе горячим борщом. Продавщица топила печку-буржуйку.
4.
Самое раннее воспоминание детства: мне года два, я у частного дома в Новом поселке пытаюсь поймать жука в спичечную коробку, он уползает, и я ползу за ним, весь в грязи. На станции электрички в Курганской области я ловлю жука-носорога и кладу его в спичечный коробок. Выпускаю его в Петропавловске, в Казахстане.
5.
Вспоминаю фильм Вендерса «Ложное движение». Рудигер Фоглер в поезде смотрит в окно на другой поезд, идущий в противоположном направлении, и видит в нём девочку-циркачку.
6.
Пытаюсь вписаться в плацкартный вагон – поезд едет на восток, проводник ждёт от меня денег, я роюсь в карманах и нахожу единственное ценное – кассету Тома Уэйтса «Рэйн догз». Проводник-казах смотрит с разочарованием, почти с отвращением и вертит в руках кассету, явно не зная, что с ней делать: «Что это? Том Уэйтс? Что это – Том Уэйтс?». Я теряюсь и отвечаю: «Американский композитор». «Кампазитор???!!!»
7.
К скамейке у университета в Томске, где мы устроились на ночлег, подходит пожилая женщина, расталкивает меня и спрашивает: «Девушка, милая, где тут морг?»
8.
У Зубовой поляны в Мордовии меня останавливает милицейская машина. Менты с автоматами бегут ко мне и орут: «Руки за голову! К стене!» Через полчаса они отпускают меня, дав в дорогу буханку хлеба, огурцы, помидоры и шмат сала.
9.
Машины не берут меня уже полдня. Вокруг степь и скирды сена, ровные бугорки на бескрайнем поле. Начинается гроза с молниями и раскатами грома, я бегу к одному из стогов и выцарапываю в нем нору, залезаю внутрь – солома лезет под рубашку, по потному телу ползут пауки и другие насекомые.
10.
Иду по рельсам, под паутиной проводов, к станции Златоуст. В тишине захожу на вокзал, где на полу спят люди, весь бетонный пол в человеческих телах.
11.
Когда папа встречался с дядей, где бы то ни было, они постоянно цапались на тему свободы. Дядя говорил, что она заканчивается кончиком носа ближнего, а папа – что она не имеет границ.
12.
В Израиле мне не хватает пространства.
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО ТО, КАК НЕ БЫЛ СОБОЙ:
1.
В конце 80-х Женя Поливин повёл меня на съезд «Демократической партии России» в качестве юного демократа. Мне было 13 лет, шел снег, а штаб-квартира находилась в подвале на улице Советской. У юного демократа был испуганный взгляд, помятые брюки и белая рубашка без двух пуговиц – каждое неловкое движение давало новосибирским политикам возможность увидеть мой голый живот. Мы зашли в тесную комнату, где толпились серьезные мужчины, а под вывеской «Не курить» сидела немолодая дама в блестящей мини-юбке и курила длинную сигарету. Когда Женя представил меня, оторвалась ещё одна пуговица, я забился в угол и тайком посматривал на даму, выпускающую из ноздрей две струйки дыма.
2.
В середине 90-х я торговал конфетами «Коровка» и «Каракум» на Петроградке. Я хотел перевестись в СПбГУ, но из-за антисемитизма на тамошнем филфаке потерпел фиаско. Поэтому пришлось найти грузина Гочу, конфетного оптовика, и выйти на панель. «Коровка!» – жалобно кричал я, – «Коровка! Шоколадные конфеты «Каракум»! Вечером у меня украли пакет «Каракума», и на этом моя блестящая конфетная карьера завершилась.
3.
В Пушкинском доме я изображал из себя исследователя древнерусской литературы. В книготорговой корпорации «Топ-книга» выдавал себя за литературного критика. В «Сибирском университетском издательстве» делал вид, что я редактор. Потом, преодолевая позывы рвоты, долго притворялся городским журналистом. А ещё – мультипликатором, поэтом, буддистом, хиппи и панком.
4.
Но самой странной моей должностью было руководство всероссийским сайтом для аптекарей, где я выучил удивительное слово «первостольник». Одной из главных моих задач было ездить на конференции по всей России, надевать костюм и изображать бизнесмена–фармдистрибьютора. Я не делал ничего, только прохаживался по залам и ел тарталетки. Вечерами в гостинице смотрел кино и несколько раз, конечно, – «Аптечного ковбоя».
5.
В одну из таких поездок я оказался в эксклюзивнейшем лофте вместе с сотней дельцов, чиновников и их жён, джазом и Ириной Хакамадой в роли конферансье. В углу сидел печальный толстый африканец и крутил сигары. Я пристроился рядом, и наблюдал, как он раскладывал табачные листья, похожие на осеннюю полусгнившую листву, набивал и трамбовал табак – толстые коричневые пальцы крутили и мяли толстые коричневые сигары. Я взял одну.
Он пошел домой, и я пошел вслед за ним. Он смешно смотрелся со спины: огромный, грузный, неуклюжий, с сумкой на колесиках, как бабка.
Было девять часов вечера и десять градусов мороза. Вместо того, чтобы ехать в гостиницу на Тверскую, я сел на метро в другую сторону и вышел на Коломенской. Зашел за мертвый кинотеатр «Орбита» и раскурил сигару. Я шёл по холодному Коломенскому парку, в темноте, в тонкой куртке, и призрачные белые церкви на фоне черного неба сливались с облаками. Казалось, и церкви, и облака состояли из какого-то белесого газа. Все вокруг было ледяным и бесплотным. И только сигара была плотная и теплая. Я сжимал её в руках: она грела не хуже варежек.
6.
В другой раз меня отправили сделать репортаж с открытия огромного фармсклада в Питере. Я преодолел 5.000 километров на самолёте, потом ехал несколько часов на автобусе и посреди пустыря увидел огромный параллелепипед. Навстречу мне шли солидные люди – оказалось, ленточку уже перерезали, открытие состоялось. Оставалось лишь взять флешку с пресс–релизом и заранее подготовленными фотографиями.
Через три дня мне надо было оказаться в Москве, то есть образовалось три дня полной свободы, и тогда у меня в голове возникло слово: мох.
7.
В костюме и галстуке, с модной причёской под самурая, я отправился на Финляндский вокзал и сел на электропоезд, следующий до станции Кексгольм. Там снял номер, выпил и заснул.
Наутро, как был, в костюме и галстуке, с «Калевалой» в целлофановом пакете, я сел на старую деревянную лодочку и поплыл, куда глаза глядят. А глаза глядели на бескрайнюю цепь карельских озер, посреди которых тут и там возникали крохотные островки с карликовыми березами и осинами с желтыми и рыжими дрожащими листьями. Грести было легко, и я, поминая Юрия Коваля, лавировал между кряжистыми ивами, пока не причалил к берегу, где мшистые холмы были как волны. Там я снял костюм, и вообще всё, а потом нырнул в мох, купался в нем и, казалось, превратился в него. Как герой «Стрелочника» Йоса Стеллинга.
8.
На следующий день, всё в том же костюме, я вышел на трассу и поймал попутку до Куриёкки, где находился крупнейший в мире Музей мхов и лишайников. Удивленная старушка-хранительница открыла мне дверь в зал. На потолке висела паутина.
9.
А еще через несколько месяцев я поехал на конференцию в Геленджик, где манкировав заседания, напился местного дерьмового вина и потом всю ночь слушал Butthole Surfers, забравшись в какой-то бурелом, из которого с большим трудом выбрался. И именно там я купил дневник Самюэля Пипса, который стал мне верным другом. Посудите сами:
«Велел жене побыстрее собираться, повез ее в экипаже на Варфоломеевскую ярмарку и показал пляшущих на веревке мартышек, что было бы забавно, если б не являло собой зрелище довольно гнусное. Были там и лошадь с копытами, похожими на бараньи рога, и гусь на четырех ногах, и петух на трех...»
«...Дамы, я, капитан Петт и мистер Касл сели в барку и поплыли к «Монарху» — корабль произвел на нас большое впечатление; всю дорогу пели; среди прочих развлечений повел миледи (графиню Сандвич), миссис Тернер, миссис Хемпсон и сестер Аллен на маяк, где стал их целовать, говоря, что беру, как полагается крупному чиновнику, поцелуями мзду, по поводу чего очень смеялись; выпили несколько бутылок вина, ели говяжий язык и пр. Засим — домой ужинать и, вволю повеселившись, — спать».
ТО, ЧТО Я ПОМНЮ ПРО ОДЕЖДУ:
1.
Одежда, наша змеиная кожа, которую мы с удовольствием сбрасываем, может валяться беззащитной кумелькой на полу или покоиться в шкафу, – она вроде маски, африканской или комедии дель арте. Как и всякая маска, она работает только во время ритуала: как только мы её надеваем, появляются духи, которые либо вселяются в нас, и их приходится изгонять (была у меня такая рубашка – ей только бы навредить, натереть и выставить на посмешище), либо дружелюбно взаимодействуют с нами – они наши союзники. То же и с чужой одеждой – думаешь, понравился человек, а нет – футболка. Или их симбиоз. Одно слово, живая шляпа.
2.
Когда мы приехали в черепановский морг и меня пригласили на опознание, я увидел папину рубашку. Сознание отказалось узнавать обезображенное тело, но рубашка, хлопчатая в клеточку, была родная-родная. Мне кажется, это был единственный раз, когда я в то время заплакал. Я не помню, забрали ли мы её. Кажется, нет. Но я помню её на ощупь, и если на папу у меня была обида, то на рубашку нет. Как можно обижаться на рубашку?
3.
Ещё у папы была спортивная шапка, розовая, трикотажная, с чёрно–белыми полосками. Она стояла у него на потной лысине, подвернутая, наподобие колпака. Я видел её издалека, когда папа на корабле разговаривал со своей дочкой, моей сводной сестрой. Так я на всю жизнь их и запомнил: они на корабле, папа – в шапке. Их разговор был очень важный, и когда я смотрю на сестру, я сразу вспоминаю: важный разговор – не со мной – розовая шапка – потная, но это ничего – это его запах.
4.
В детстве я обожал мамину красную мотоциклетную куртку-дутыш, югославскую, гладил её рукой, представляя, как мама в 17 лет на полной скорости мчится по автостраде.
5.
Я мечтал о джинсах, и Женя Поливин подарил мне их, старинные джинсы с клёшами, из советской ткани, которые ему сшила его мама. В 1960-х он был стилягой. А потом Женина жена, Таня, связала мне авангардистский свитер, который я носил до 30 с лишним лет.
6.
Помню, как в 1990-е годы в Академгородке на улице стояли прилавки с водолазками – черными, серыми, синими, голубыми, лиловыми, красными, оранжевыми, желтыми-яичными, лимонными зелёными, салатовыми, белыми. Я покупал черные и белые, но хотелось все.
7.
Я десять лет носил рубашку Юлиного первого мужа, тоже в клеточку, пока она не стала совсем прозрачной и исчезла.
8.
В Индии я купил шаль из пашмины, шерсти кашмирской козы, с вышивкой по краям. Закутавшись в неё, я сидел в тамбуре поезда «Амритсар – Харидвар». Дверь была открыта, я свесил ноги и смотрел, как мелькают поля, банановые деревья, и повторял «Ом мани пеме хум». Усатый индус подошёл ко мне и сказал: «Благослови меня, святой человек!» Я отмахнулся. Когда я вернулся в Новосибирск, оказалось, что шаль насквозь пропиталась индийской помойкой и благовониями.
9.
У меня был стильное черное пальто, но однажды я напился, заблевал его, и пальто пришлось выкинуть.
10.
И последнее: десять лет назад, в Катманду я купил огромную черную вязаную куртку из шерсти яка. В самолёте на обратном пути девочка-шерпа из горного села, впервые летевшая за границу, в Париж через Стамбул, прижалась ко мне, когда мы начали взлетать. «Какая у тебя хорошая куртка... Как дома». Она держалась за неё несколько минут, и успокоилась.
Марк Стрэнд: ИСТОРИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ
In ДВОЕТОЧИЕ: 43 on 08.03.2025 at 23:55Говарду Моссу
1
Мы читаем историю нашей жизни.
В окна комнаты
видно улицу.
Она пустынна.
Всё тихо.
Деревья согнулись под тяжестью листьев,
машины припаркованы.
Мы переворачиваем страницы
в надежде отыскать следы сострадания
или просто перемены,
строку, которая помогла бы нам
стать ближе или расстаться.
Но, похоже, что книга нашей жизни пуста,
мебель на тех же местах,
лишь ковры темнее с каждым разом
от наших теней.
Комната – целый мир!
Мы сидим рядом на диване
и читаем о диване.
Это идеально – говорим мы себе.
Так и есть.
2
Мы читаем историю нашей жизни,
как если бы прожили её,
как если бы мы её выдумали.
Вновь и вновь.
На каком-то месте
я откинулся в кресле и оторвался от книги,
потому что в ней
уже было об этом.
Тогда я склонился и начал писать о книге,
о своём желании вырваться за её пределы.
Потом остановился, положил ручку
и прочитал: он положил ручку,
повернулся и увидел, что она читает
место о том, как она влюбилась.
Книга точнее, чем мы могли вообразить.
Я повернулся и стал смотреть,
как ты читаешь о мужчине,
который жил напротив,
в заново отстроенном доме.
Но потом он оставил семью и ушёл,
и ты влюбилась в него,
потому что знала:
он никогда не придёт к тебе.
Ты сама не знала, что ждёшь его,
и каждую ночь говорила,
что мы с ним похожи.
Я отодвигаюсь и смотрю,
как ты стареешь без меня,
как солнце озаряет твои седые волосы.
Ковёр и мебель
кажутся ненастоящими.
Она продолжала читать.
Ей казалось, что его отсутствие
не так уж важно,
словно в погожий день
пожаловаться, что погода не удалась,
поскольку не улучшила настроение.
Ты прикрываешь глаза
и, кажется, хочешь захлопнуть книгу,
в которой теперь говорится о моём бунте,
о том, как я, прекратив читать,
представляю свою жизнь без тебя,
другую жизнь, другую книгу,
и узнаю,
как ты зависима от своих желаний,
как ты боишься этих моментов прозрения.
Книга говорит больше, чем следует.
Она хочет развести нас.
3
Этим утром, проснувшись, я понял,
что наша жизнь не больше,
чем история нашей жизни.
Когда ты не согласилась со мной,
я указал на строчку в книге – она не согласилась.
Ты заснула вновь, а я начал читать
те странные строки, над которыми ты гадала,
пока они писались,
а потом потеряла интерес.
В них говорилось о холодных отсветах луны
на спинке кресла и мужчине,
представляющем нагую женщину,
сидящую в саду в ожидании.
Она верит, что любовь – это жертва.
Отрывок описывал её смерть,
имя не называлось,
и это особенно раздражало тебя.
Потом мы узнали,
что этот мечтатель живёт в новом доме напротив.
Этим утром, когда ты заснула опять,
я стал перелистывать начало.
Словно вспоминаешь детство —
столь многое кажется исчезнувшим,
столь многое ждёт возвращения.
Я не знал, что делать.
В книге говорилось: в эти моменты
это была только его книга.
Бледная корона неловко сидела на его голове.
Недолговечный правитель
внешних и внутренних разладов,
не находящий покоя в собственном королевстве.
4
Пока ты спала, я прочитал,
что твой сон – это способ
обратить вспять течение жизни.
Я был потрясён собственным одиночеством,
осознав, что мои чувства —
всего лишь неудачные версии рассказа,
в которых я никогда не смогу признаться.
Я читал и умилялся своему желанию
отдать себя миру твоих сновидений.
Он хотел увидеть её обнажённой и беззащитной,
увидеть её в отвергнутых, забытых сюжетах
старых снов,
в масках и костюмах невероятных стран.
Словно его неудержимо
влекло к поражению.
Читать становилось всё труднее.
Я устал и хотел отвлечься.
Книга, казалось, знала об этом
и попыталась сменить тему.
Я ожидал твоего пробуждения,
не ведая, как долго я жду
и, казалось, больше уже не читал.
Я слышал всхлипы ветра
и ропот листьев за окном.
И об этом тоже было в книге.
Там было всё.
Я смотрел на твоё лицо
и читал глаза, нос, рот...
5
Если бы в книге было одно идеальное мгновение!
Если бы только мы могли удержать его!
Мы бы могли начать книгу сначала,
словно не мы её написали,
словно она была не про нас.
Но слишком много тёмных тупиков
на каждой странице
и так узки тропинки к спасению!
Мы читаем весь день напролёт.
Перевернуть страницу, как осветить свечой
ещё один закоулок разума.
Каждое мгновение — полно безнадёжности.
Если бы только мы могли перестать читать.
Он никогда не захотел бы читать другую книгу,
а она продолжала смотреть на улицу.
Машины стояли у обочин
и глубокая тень деревьев укрывала их.
В доме напротив были задёрнуты шторы,
может быть, живущий там мужчина,
мужчина, которого она любила,
читал историю другой жизни.
И она представляла пустую гостиную,
холодный камин и сидящего мужчину,
он пишет письмо той женщине,
что принесла в жертву любви свою жизнь.
Если бы только в книге
было одно идеальное мгновение,
оно бы стало последним.
В книге не говорилось об истоках любви.
Она утверждала, что смятение –
необходимое благо,
и никогда ничего не объясняла.
Только показывала.
6
День продолжается.
Мы размышляем над тем, что узнали.
Пытаемся заглянуть в зеркало
на дальней стене –
не в силах вынести одиночество.
Книга продолжается.
Они сидели молча и не знали
с чего начать.
Это слова разделили их,
это они породили одиночество.
Они медлили
и переворачивали страницы в надежде,
что случится что-нибудь,
и они смогут украдкой залатать свою жизнь:
каждое поражение будет прощено, ибо недоказуемо,
каждая боль вознаграждена, ибо была ненастоящей.
Но ничего не случилось.
7
Эта книга не сохранится.
Мы – живое доказательство этому.
В комнате темнее, чем на улице.
Я слышу твоё дыхание.
Ты спрашиваешь, не устал ли я,
хочу ли я продолжать чтение.
Да, я устал.
Да, я хочу продолжать.
Я отвечаю «да» на любой вопрос,
но ты не слышишь меня.
Они сидели рядом на диване.
Всего лишь измученные тени
себя прежних.
Они вглядывались в книгу,
ужасаясь собственной невинности
и нежеланию сдаться.
Они сидели рядом на диване,
готовые принять правду:
какой бы она ни была, они примут её.
Книга должна быть написана,
должна быть прочитана.
Они и есть книга,
и ничего больше.
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: БЕЛЛА МИЗРАХИ
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:
Марк Стрэнд (1934 - 2014)
“...Марк Стрэнд в основном поэт бесконечности, а не сходства, сердцевины и сути вещей – а не их применения; никто не умеет вызывать молчание, пустоту лучше, чем этот поэт, в чьих строках вы слышите не сожаление, а скорее уважение к тому неосознанному, что окружает и поглощает нас”, – сказал Иосиф Бродский во вступительном слове к выступлению Марка Стрэнда в музее Гугенхайма (1986).