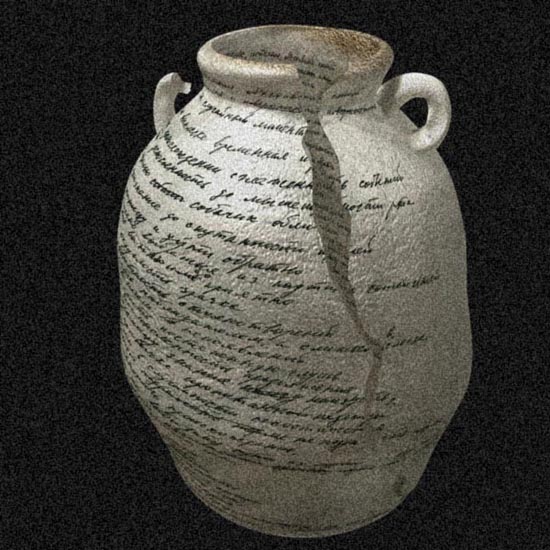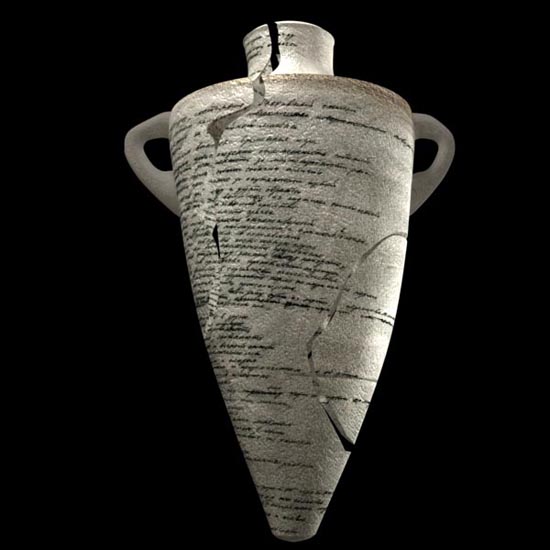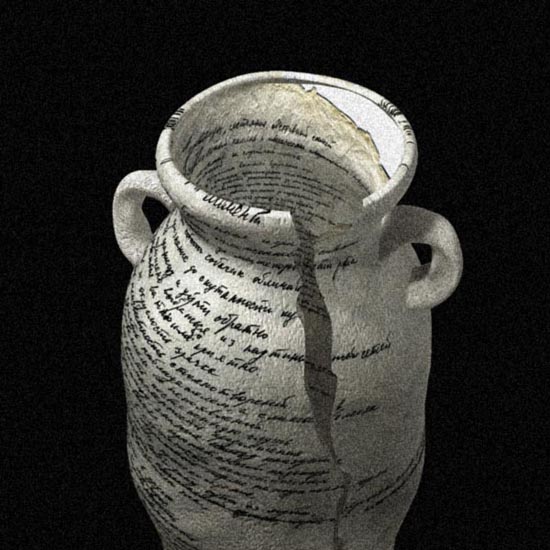ФРАГМЕНТЫ РОМАНА*
Двадцать третьего июля я, Скотли и мой денщик Пикап выехали из Токио и на пароходе «Пенза», принадлежащего русскому Добровольческому флоту, добрались через Цуругу до Владивостока; у капитана, воседавшего во главе нашего стола, был какой-то кроткий, отстраненный взгляд, словно он не знал, что ему делать дальше, в то время как судовые офицеры, открыто выражая отвращение к своему унылому занятию, с энтузиазмом обсуждали высокую политику, религию, литературу и метафизику, по сравнению с которыми плоскость обыкновенной навигации и тому подобное казались вещами совершенно ничтожными. Тем временем пароход двигался вперед, равномерно-гулко, – и даже достиг места своего назначения.
Владивосток, каким мы увидели его с борта, поражал недовольным видом своих обитателей. Портовые грузчики тупо сидели на причале, словно испытывая равное отвращение к гвардии белой, красной или зеленой; под моросящим дождем бродили люди, которым словно надоела их работа, они сами и все их существование.
Скажу сразу: наша «Организация» была нечто беспрецедентное – один из тех комических вставных номеров, которые устраивались после перемирия. Бедное старое сентиментальное военное мышление, поставленное перед задачей спасения цивилизации и вынужденное привлечь на свою сторону рассудок, обнаружило, что на деле у него нет запасов, из которых черпать этот рассудок, и нырнуло в море русской бессвязности. И озадачилось – день ото дня все больше озадачивалось, выйдя, наконец, из этого моря с поджатым хвостом, вымазанное с головы до пят. Оставалось только наблюдать за этим спектаклем. Спектакль разыгрывали несколько департаментов, чьи начальники развлекались тем, что без конца перекидывали друг другу желтые листки, причем задача состояла в том, чтобы искусно переложить решение вопроса на плечи другого департамента. Это было нечто вроде шахматной партии, в которой умение и остроумие играли огромную роль. Тот департамент, который не мог переслать желтый листок другому и в качестве последнего средства был вынужден принять решение, признавался проигравшим. Время от времени вызывались новые офицеры: специалисты по погрузке, секретные агенты и им подобные, и обычно проходило около полугода, прежде чем они прибывали из Англии, к каковому времени нужда в них отпадала. Не желая отправляться обратно домой, они рыскали по помещениям, зарясь на работу своих ближних, что обыкновенно заканчивалось учреждением нового департамента, начальником которого становился один из них. Жирный, дряблый майор бродил повсюду, плетя ужасные интриги, чтобы заполучить мою должность, а я (сам великий интриган), чтобы сохранить ее за собой, распространял слухи, что скоро оставлю свою должность по собственному желанию. Тем временем майор довольствовался тем, что подчинялся моим приказам. В целом я благожелательно отношусь к атмосфере легкого большевизма в общественных делах. Соответственно сам я занялся писанием романов и позволил, чтобы отделом управляли двое младших клерков. И прекрасно они им управляли, доложу я вам! Некоторые читатели тут, возможно, захотят осудить меня за мое легкомыслие. Поверьте, они (если можно так выразиться) порют чепуху. Относиться серьезно к правительству, возглавляемому черчиллями и биркенхедами, означает не уметь быть серьезным. Во всяком случае, в нашем отделе мы культивировали определенный литературный дух, выполняя свои немудрящие военные обязанности, в то время как наши старшие офицеры (после того, как ввергли нас в самую смехотворную из войн) были заняты постройкой памятника безрассудной алчности – Версальского договора!
Прослужив под моим началом некоторое время, майор, беспокоясь, как бы его не отправили домой, основал новый департамент – почтовую контору, главой которой назначил себя. Я должен был работать под началом сэра Хьюго (чья слава шла на весь Владивосток), о котором вы, возможно, слыхали. Мой начальник обожал «штабную работу» и, помимо разных других папок, имел особую – папку под названием «Папка по вопросам религии», в которой хранил письма от митрополитов, архимандритов и прочих святых отцов, а также еще одну папку, в которой хранилась корреспонденция относительно каких-то граммофонных записей, сделанных в офицерском клубе одним канадским офицером. И большая часть его времени была занята пересылкой этих папок туда-сюда. И нередко граммофонная папка терялась, а иной раз терялась религиозная, и сэр Хьюго делался весьма расстроен. Или же он писал отчет, и этот отчет – такой уж сложной была наша организация – тоже терялся. Однажды он сочинил исчерпывающий отчет о ситуации на местах. Он очень тщательно его выправил, после длительных раздумий добавил запятых, подумав опять, стер некоторые добавленные запятые, отдал отчет машинистке и выправил его вторично уже в машинописи, вставив обширные подразделы на полях, которые он обвел большими кругами, соединив их между собой длинными остроконечными пересекающимися стрелками, так что в конце концов отчет стал походить на паучью сеть. После чего он прочел его снова с начала до конца, на этот раз обращая внимание только на пунктуацию. Он вставил семь запятых и точку, которую в первый раз пропустил. Сэр Хьюго был особенно привередлив по части точек, запятых и точек с запятой и нежно любил двоеточия, которые предпочитал точкам с запятой, считая, что двоеточия вносят особую ясность и остроту мысли, доказывают то, что вселенная является одной цепью причин и следствий. Чтобы избежать любых возможных ошибок при перепечатке рукописи, сэр Хьюго обвел точки кружками; запятые он ставил так, что едва не протыкал пером бумагу, а потом одним махом приделывал им саблеобразный хвост. Обе точки в двоеточиях обводились кружками, а точка с запятой была комбинацией обведенной кружком точки с саблехвостой запятой. Не могло быть никакой ошибки в отношении пунктуации сэра Хьюго. И поверите ли вы? После того, как он отправил отчет, написав на внутреннем конверте красными чернилами «Совершенно секретно и лично» и поместив внутренний конверт во внешний и запечатав оба, – отчет потерялся.
Разумеется, сэр Хьюго наводил справки. Он установил цепную ответственность, и казалось, что каждое звено делает свое дело: однако цепь не сработала. Но сэр Хьюго не сдавался. У него скопилась бесформенная куча корреспонденции касательно блудного отчета, собираемая в папку под названием «Потерявшийся отчет сэра Хьюго Кальпита», и получив очередной обрывок доказательства по этому делу, он набрасывал пару слов на желтом листке и переправлял его мне (кому вменил в обязанность держать папку) со словами: «Прошу прикрепить сие посредством кнопки к папке под названием «Потерявшийся отчет сэра Хьюго Кальпита»». Однажды, будучи в игривом настроении, я начертал на листке в стиле сэра Хьюго:
«Прошу уведомить, посредством какой кнопки:
1. (а) Обычной кнопки; (б) английской кнопки; (в) канцелярской кнопки; (г) заколки для волос; (д) шплинта.
2. Кнопки какой марки и размера.»
И отослал листок сэру Хьюго.
Я думал, что сэр Хьюго порадуется этому листку, ведь он настолько схож с его собственными процедурными методами. Но не тут-то было. Сэр Хьюго ненавидел людей, подобных ему, ведь они были карикатурой на него, призванной напомнить ему о том, о чем в моменты откровенности с самим собой он смутно догадывался, – что он довольно-таки нелеп.
Но когда я был вызван сэром Хьюго и отчитан за свое легкомыслие, я решил, что лучшим поведением будет сохранять честное, тупое лицо в доказательство своей невиновности; и сэр Хьюго, кажется, мне поверил.
И вот вчера – два месяца спустя! – блудный отчет вернулся в контору. К невыразимому ужасу сэра Хьюго его обнаружили в пустом мешке из-под овса на дальней пристани Эгершельдт, и теперь сэр Хьюго ломал голову, каким образом он мог туда попасть. Он был решительно настроен проследить весь путь, проделанный отчетом до конторы, даже если это будет стоить ему здоровья.
Он созвал специальное совещание, куда были приглашены начальники всех департаментов, и рассказал нам об этих таинственных обстоятельствах.
– Мы должны начать, – сказал он, – с самого начала. Вообще-то есть гораздо худшее, с чего можно начать. У нас есть мешок. Это хорошо. Помимо этого мешка, нам неизвестно ничего. Итак, вот мешок. – Он раскрыл мешок. – Я предлагаю, господа, чтобы вы начали работу в обратном направлении. Первым делом следует установить производителей мешка.
Эта задача была возложена на меня.
Разве неудивительно, что я внезапно заболел?
Была зима – чистая, белая, хрустящая, непроницаемая. Все вокруг – бухта и холмы – было покрыто белой скатертью. Я лежал в постели больной и уносился мыслями в будущее, возвращался в прошлое. Длинные, спокойные мысли. В эти сумеречные предрассветные часы, лежа на спине, уносишься за пределы жизни, в ее приделы, поднимаешь из глубокого колодца подавленных эмоций ту призрачную субстанцию, которая лежит под нашим бытом, слой за слоем снимаешь «атмосферу», вуаль за вуалью –настроение, облако за облаком – туманное забвение, пока твоя душа не засияет сквозь это, как звезда на морозном небе. Что это такое – твоя душа, она – это ты? Мое «я», как мне открылось сейчас, всегда менялось, никогда не было одним и тем же, никогда мною, но всегда ожидало чего-то – чего? Возможно, мы меняем души, как змеи меняют кожу. Есть такие чувства, ожидающие меня, о которых я еще ничего не знаю. Когда я их узнаю, они добавятся к моей постоянно меняющейся душе – на пути к окончательной целостности Бога.
В глубокой тишине ночи мы в одиночестве пробираемся к двери. Мы медлим. Нажимаем ручку. Дверь заперта. Мы умираем: дверь открывается, и мы входим. Комната пуста, на другом конце мы видим дверь. Мы нажимаем ручку. Дверь заперта.
И так навечно…
Сэр Хьюго прислал Скотли записку, гласящую:
«Прошу сообщить:
1. Предприняты ли вами, или еще не предприняты, меры по обеспечению того, чтобы вашего друга навестил врач?
2. Если да, то (а) какие меры? (б) в какой день? (в) в какое время? (г) какой врач?»
Однако майор Скотли, только собравшись взяться за меня, свалился с приступом дизентерии, и вопрос был на неопределенное время отложен. И лишь мой сонный апатичный ординарец Пикап ухаживал за мной, окутанным облаками безвременных мыслей, зажатым последними тисками инфлюэнцы.
– Имеется ли у вас внятное представление о текущей обстановке или такого не имеется? – вопросил сэр Хьюго.
– Так точно, имеется. Все обстоит довольно просто. – Я шаркнул ногой. – Видите ли, сэр, дело вот в чем. Сейчас Иркутск снова попал в руки белых, которых туда оттеснили красные. Красные, если вы помните, отбили Иркутск набегом у эсеров после того, как те выгнали из города колчаковцев и впоследствии разгромили Семенова. Думаю, теперь каппелевцы соединятся с семеновцами, но, будучи оттесняемы основными силами красных, продвинутся к востоку и, возможно, отобьют Владивосток у красных, одновременно с этим эвакуируясь из Иркутска, который они были принуждены занять и который в этом случае, думаю, будет снова занят красными. Понятно ли я излагаю, сэр?
Сэр Хьюго закрыл глаза и приложил пальцы к векам, словно пытаясь призвать на помощь все свое внимание.
– Гм, – произнес он. – По понятности ваше изложение вполне сравнимо с текущей обстановкой.
– Разумеется, сэр, я пока не упомянул поляков, латвийцев, латышей, литовцев, чехов, янки, японцев, румын, французов, итальянцев, сербов, словенцев, югославов, немецких, австрийских, венгерских и мадьярских военнопленных, китайцев, канадцев и нас, а также множество других национальностей, чье присутствие довольно-таки серьезно осложняет обстановку ввиду проводимых ими различных политических методов.
– Именно что различных, черт бы их побрал, – проворчал сэр Хьюго.
– Фактически это так.
– Я знаю, что это так.
– Конечно, – продолжил я, – положение чехов самое тяжелое из всех.
– Прошу прощения, – перебил меня сэр Хьюго. – Кажется, вы сказали: «латвийцев, латышей и литовцев»? Но, говоря: «латвийцев, латышей и литовцев», вы, собственно, имеете в виду… что, черт подери, вы имеете в виду?
– Это родственные племена… в некотором смысле, – отозвался я с легкостью, пытаясь таким образом отделаться от затруднительного вопроса, суть которого была не совсем ясна мне самому.
– Но, говоря: «родственные племена в некотором смысле», подразумеваете ли вы «родственные народы» – и в каком смысле?
– Точно так, – радостно подтвердил я, счастливо выпутавшись, и продолжил: – Положение чехов весьма затруднительно…
– Я все-таки был бы склонен спросить, – снова вмешался сэр Хьюго, – что вам известно о родстве между так называемыми национальностями, а именно латвийцами, латышами, литовцами и так далее, и между так называемыми странами, а именно Лифляндией, Латвией, Литвой, Эстонией, Ливонией, Эстляндией, Курляндией и тому подобными, а также о том, являются ли они на самом деле одним и тем же народом. Однако оставимте это. Возвращаясь к предмету нашего разговора – что там вы говорили о чехах?
– Положение чехов, – радостно продолжил я, – весьма затруднительно. Два года назад они сражались против большевиков и были зачислены в реакционеры и сторонники старого режима. Так продолжалось около года, пока чехи, будучи людьми демократического настроя, не выдержали и решили помочь эсерам в их борьбе со сторонниками старого режима, чтобы загладить свои грехи. Эсеры с помощью своих чешских братьев встали на ноги, но было уже слишком поздно, и они растворились в среде большевиков.
– И что же?
– Видите ли, сэр, чехам пришлось воевать с большевиками.
– Зачем? – с некоторым вызовом и шаловливым выражением в глазах спросил сэр Хьюго, чье румяное лицо овевал дым от японской сигареты.
– Затем, что с ними воевали большевики.
– Зачем? – спросил сэр Хьюго с прежней интонацией и выражением.
– Затем, что они были их врагами на протяжении двух лет.
– О! – произнес сэр Хьюго.
– И теперь большевики преследуют отступающих на восток чехов.
– Именно что преследуют, черт бы их побрал, – произнес сэр Хьюго.
– Но есть еще и кое-какие реакционеры, остатки колчаковской армии под командованием генерала Каппеля, которые отошли к востоку вдоль железной дороги и вступили в арьергардный бой с преследовавшими их большевиками. В том же положении были и чехи, так что они объединились с этой группировкой белых и вступили в столкновение с красными. Но было и другое ядро белых, группировавшееся вокруг атамана Семенова, отчужденное действиями против себя чехов и эсеров.
– Так, – произнес сэр Хьюго с закрытыми глазами, – все это мне ясно. Где же загвоздка?
– Загвоздка возникла, когда их друзья эсеры покраснели под цвет их противников-большевиков, а их товарищи по оружию каппелевцы – побелели под цвет их заклятых врагов семеновцев.
– Ну и что же?
– В общем, чехи перестали понимать, на каких позициях находятся, сэр.
– Именно что перестали, черт бы их побрал, – произнес сэр Хьюго.
Мы оба вздохнули.
– Это ужасно, – произнесла тетя Тереза, когда я вошел в столовую.
– Что ужасно?
– Степан вернулся.
– Гм.
Степан был наш кучер. Тетя Тереза с ее деликатным здоровьем не могла совершать длительных прогулок, однако нуждалась в свежем воздухе, и поэтому для ее нужд держали пару тощих кобыл и бородатого, разбойничьего вида Степана, рядом с которым на мягкое сиденье садился Владислав, одетый в поношенную ливрею. Степан был фаталист и на все вопросы, включая оценку его езды, отвечал: «Усе возможно». К жизни, похоже, он относился с униженным смирением. И поэтому допился до того, что однажды опрокинул коляску с тетей Терезой. Когда она предостерегла его против этого, он промолвил: «Усе возможно», – и опрокинул коляску опять. После этого тетя его уволила. Она уволила его два месяца назад, однако он так и оставался в своей каморке, молчаливый и нелюдимый, и казалось, что ничто не может сдвинуть его с места. Кажется, ночами он отлучался куда-то ненадолго, но потом опять возвращался к себе.
Я говорил с ним. Владислав говорил с ним. Дядя Люси и тот говорил с ним. Мы все с ним говорили, и я даже привел капитана Негодяева, чтобы и он с ним поговорил. Однако ничто не могло сдвинуть Степана с места.
– Пошлите за генералом, – наконец, приказала тетя Тереза.
Генерал явился после трех.
– Я с ним поговорю. Уж я-то с ним справлюсь, не извольте беспокоиться, – заявил он, освободился от шинели и, потирая руки, прошел в гостиную. – Я разберусь с подлецом. Приведите его сюда.
– Он не придет, – сказала тетя Тереза. – Вся беда в том, что он никуда не ходит. И никуда не уйдет.
– Тогда я сам к нему приду. Я с ним сам поговорю. Не беспокойтесь, я управлюсь с этим подлецом.
Мы последовали за генералом в конюшню, над которой располагалось Степаново жилище. Без лишних церемоний генерал распахнул дверь в его берлогу. Нестерпимая вонь навалилась на нас, словно дикий зверь, так что мы бессознательно отшатнулись обратно, а генерал прижал к носу надушенный платок. Однако Степан, на чьем лице застыло выражение какой-то дикой самодовольной мрачности, неподвижно сидел на своей койке и молчал.
– Подлец! – рявкнул генерал и осыпал его угрозами. Но Степан не промолвил ни слова
– Даю тебе три минуты убраться отсюда, ты слышишь, подлец? – гремел генерал. – Да я тебя так… я тебя эдак… я тебя наперекосяк…
Но Степан не двигался и молчал.
– Подлец! – гремел генерал. – Негодяй! Да я тебя сейчас выволоку и за ноздри повешу на ближайшем заборе, этакая бестия! Пресмыкающееся! Крокодил!
Но Степан не двигался и не говорил ни слова.
Генерал не унимался.
– Я с тобой разговариваю или с этой стеной, мерзавец? – гремел он. И давай его поливать дальше, и дальше, и дальше, так и сяк, и с боков, и со спины, и отовсюду: – Да ты сын того, да ты сын сего, да ты сын всего!
Без толку: Степан словно его не слышал.
Генерал взялся на него с новым пылом, с удвоенной энергией, с редким жаром. Какое-то время спустя он замолк, чтобы вздохнуть и оценить эффект, произведенный его глоткой. Однако оказалось, что эффекта никакого.
– Упрямый народ, – произнес генерал, вытирая лоб платком. – Уф! Аж взопрел. Был у меня когда-то денщик, Соловьев. Я даже с ним разговаривал, понимаете ли, словно с человеческим существом, – разговаривал! А у него взгляд – у коровы и то больше мысли. Только когда я применил кое-какие крепкие словечки, имевшие отношение к его семейному древу, мать его помянул, ну и так далее, по-дедовски, знаете, – «Ах ты щучий сын!» и так далее, только тут, понимаете ли, лицо у него просветлело, словно зажглась у него в голове некая искра разума, и не поверите – потихоньку-полегоньку проявилось в нем нечто почти человеческое, и он произнес: «Так точно, выше превосходительство!» Вот с каким материалом приходится дело иметь. Да-с… А здесь поделать ничего нельзя. Ничего не поделаешь с этой канальей… А вы как поживаете? – он повернулся к тете Терезе. С нежностью смотрел он на нее. Солнце било ему в окруженные морщинами карие глаза.
– Я… как обычно. Однако этот кучер, право…
– Откуда он? – спросил генерал.
– Кажется, откуда-то из Малороссии, – ответил я.
– Тогда уж точно ничего не поделаешь. Ничего сделать нельзя с этим племенем!… А вы что поделывали?
– Полагаю, мы должны оставить его? – уныло вздохнула она, взглядом выдавая свое подозрение, что от генерала уже ждать нечего, что он больше бранится, чем сердится.
Генерал вздохнул и задумался.
– Он может послушаться меня и уйти. Впрочем, завтра я приду снова, и поглядим.
Но все было безуспешно. Той ночью кучер вернулся снова. Назавтра генерал явился, как и обещал.
– Упрямейший народ, – вздохнул он, выслушав новость от тети Терезы. – Не говорил ли я вам – был у меня денщик, Соловьев, – тяжелый случай, но я сумел высечь из него искру разума. Но тут… – Он вздохнул. – Тут… ничего не попишешь.
Есть в России, как мне показалось в тот день, довольно нелепый обычай выкрикивать на свадьбах слово «горько» – при этом жених и невеста должны поцеловаться.
– Странно, – произнес генерал, – что-то и хлеб горький, и вино.
– Горько! Горько! – радостно закричали гости.
Сильвия и Гюстав поцеловались. Он лишь притронулся к ней этими своими канареечными усишками. Представьте мои чувства. Генерал щелкнул пальцами, и оркестр сыграл туш.
– Да, вот уж действительно свадьба в русском стиле, – смеялась тетя Тереза.
Было много сказано и выпито, и в конце каждого тоста оркестр играл туш. И даже когда тостов не было, генерал то и дело щелкал пальцами, и оркестр играл туш. После этого он стал уже играть туш по собственному усмотрению, чтобы выделить чью-нибудь фразу или слово. Лишь кто-то издавал звук – оркестр играл туш.
– Ха-ха-ха-ха! – рассмеялась Сильвия.
Оркестр сыграл туш.
Я сидел между капитаном Негодяевым и Скотли и, прислушиваясь к внутреннему голосу, отчитывающему меня за проданное счастье, размышлял так: проблема со счастьем заключается в том, что его технология полностью неудовлетворительна; в том, что нельзя обрести его тогда, когда хочется, так легко, когда оно того стоит; требуемая жертва все время перевешивает мотив, и, зная это, вам не хочется ее приносить. И мне не хотелось ее приносить; вот я сидел – и страдал. Я утешал себя тем, что она была для меня все равно, что белый слон, в моем путешествии к совершенству она была словно роскошный дорожный сундук, великолепный путешественник по свету, для которого у меня не было соответствующего снаряжения. Она была драгоценным камнем, бриллиантом, бывшим мне не по средствам. Но под всеми этими утешительными мыслями скрывалась правда, неслышная, но раздражающая, – что я, точно какой-нибудь поезд, упустил величайший шанс быть счастливым в жизни.
– Горько! Горько! – радостно вскричал генерал. Сильвия и Гюстав поцеловались. (О, где моя сабля?!) Оркестр сыграл туш.
Мне не было больно; я чувствовал лишь тяжелую тупость – духовную головную боль. Сегодня была суббота. Что теперь мне делать? Завтра будет воскресенье. День праздника и отдыха. Красный день календаря – да, красный от муки! Что же до моего отплытия домой – я мог только махнуть рукой!
Когда убрали первую перемену, поднялся генерал и предложил тост за здоровье жениха и невесты, а оркестр сыграл туш. После этого поднялся капитан Негодяев и предложил тост за здоровье родителей невесты. Потом начали произносить речи политической направленности, генерал выпил за славную бельгийскую армию, и оркестр исполнил, не совсем правильно, государственный гимн Бельгии. После чего поднялся дядя Эммануил и выпил за возрождение России, на что генерал как самый старший офицер среди присутствующих ответил, включив в свой тост Англию и вообще всех союзников (позабыв в праздничном настроении их предательство в отношении себя).
– Обращаясь к нашим последним союзникам – американцам, – произнес он, – должен отметить, что хоть они и безбожники, они все же чертовски умный народ. Граммофоны, галоши, обувь, машины, изобретения и разная другая ерунда – все могут делать; или, скажем, построить мост через океан – на это они мастаки. Американцы! Ура!
Оркестр сыграл туш. Мы со Скотли сказали за Англию. Затем поднялся полковник Исибаяси, чтобы сказать за Японию; все наклонились вперед и обратились в слух.
– Имею большую честь, – сказал он, – говорить за достопочтенных офицеров армии союзников. Банда большевиков, которая появилась на северо-востоке от Читы, гордая, но слабая, отступила, заслышав приближение наших войск. Возможно, они шпионили за нами и ощутили большую тревогу, они уходили все дальше и дальше. Поэтому мы можем поддерживать мир в Чите и безопасность основной ветки железной дороги, не обнажая меча. Сейчас перестали быть целесообразными большие части здесь. Поэтому мой командующий приказал разрешить союзникам вернуться в Харбин. Скоро вы будете праздновать триумф и получать большую честь. Мы выполнили наш долг с вашей большой помощью. Выражаю вам тысячу благодарностей за любезное содействие…
Тут Скотли, с багровым лицом, наклонился к полковнику.
– Кончайте говорить о делах, старина, – сказал он, – расскажите-ка нам лучше… что-нибудь такое… что-нибудь, черт побери, о ваших гейшах, а?
Полковник Исибаяси оскалился.
– Ха! Ха! Неуззели? – и повернулся к молодоженам: – Зелаю вам счастливости по этому случаю. Маленькое развлечение на поле брани, и надеюсь, что вы будете пить много сакэ, весело говорить и петь.
И он уселся, – а оркестр сыграл туш.
Генерал, который только что побуждал к солидарности среди союзников после войны, от количества выпитого впал в усталый цинизм и разочарование.
– Ах! – Усталый жест. – Все это болтовня, болтовня. Они болтают про льготные условия для союзников, про оговорку о наибольшем благоприятствовании и прочем вздоре. Однако на практике к чему это все сводится? Мы, русские, например, столько всего сделали для армян. Но когда один из наших захотел в Нахичевани побриться, цирюльник, прежде чем намылить ему лицо, плюнул на мыло. Ну, тот, ясно, вскакивает, требует объяснений. «Не волнуйся, красавчик, – цирюльник ему говорит. – Мы так показываем свою благосклонность – льготные условия. Обычному человеку мы сначала плюем ему в рожу, а потом начинаем намыливать!» Да-с. Вот к чему это приведет… ни к чему больше… хе-хе! – Генерал слабо захихикал.
И, глядя на это смешанное, разнородное сборище, я думал: какого дьявола должны государства воевать? Пустоголовый кретинизм «союзов», дружественных связей тех или этих государств: все государства были слишком разными и слишком непохожими друг на друга, чтобы гарантировать создание какого-то естественного лагеря, основанного, как сейчас, на личных пристрастиях. Это было абсурдно. Тем не менее, он все вели себя так, словно в этом бегстве наутек крылось некое прочное преимущество. Были глупцы, проповедовавшие войну в экономических целях, а когда после войны и победителей, и побежденных засасывало гнилое экономическое болото, оставленное войной, эти сразу же забывали о своих экономических аргументах (пока не начинали раздувать следующую войну). Это было невероятно. Никто не хотел войны, никто, кроме горстки кретинов, и вдруг все те, кто не хотел войны, обратились в кретинов и стали подчиняться той горстке, которая развязала войну, как будто другой возможности и вправду не было, – того простого здравого смысла, по которому, что бы ни произошло, нельзя было начинать войну: ибо, что бы ни случилось, оно по естественной природе вещей не может быть хуже войны.
Какой же смесью были мы все, даже в пределах каждой национальности. Русский денщик Станислав был больше поляк, чем русский; Браун – скорее канадец, чем американец; Гюстав – скорее фламандец, чем валлон, а я – ну, вы знаете, кто я. И, наконец, – словно чтобы это сборище могло лучше представить недавнюю Мировую войну, – был среди нас юный британский офицер, один из тех молодых, простых и хороших ребят, которые в войнах, развязанных во имя свободы, цивилизации, отстаивания национальной чести, подавления тирании, восстановления закона и порядка и прочих кровожадных и священных поводов, тысячами приносятся в жертву, и их мировосприятие основано на смутном чувстве, что где-то что-то не так, и кого-то надо за это вздернуть.
Поэтому они весело отправляются к своей погибели, полагаясь на то, что их враг – то зло, чьей крови они ищут, и, вступив на этот праведный (и рискованный) путь, они уже мало волнуются насчет происхождения этого зла. И они отправляются убивать и калечить и в свою очередь быть убитыми и покалеченными, весело, запанибратски. Их образ мышления, их манера говорить находятся в согласии с состоянием их души. Только и пристают ко всем весь день напролет с вопросом: «А барменши пожирают своих детенышей?» Или привязываются к одной фразе вроде «Да ты весь растерзан!», и она становится постоянной шутливой фразой, применимой к любому и в любой ситуации. Или подхватывают фразу: «Лишний кус хлеба», и все у них становится лишним – лишний кус пива, лишний кус сна, лишний кус стирки. Их разговоры опускаются до того, чтобы наутро поведать друг другу, сколько минувшей ночью он выпил виски с содовой.
– Горько! Горько! – закричал генерал.
Оркестр сыграл туш.
Сильвия и Гюстав поцеловались.
До этого я часто встречал в книгах и слышал фразу: «Какой у нее красивый смех!» – и она всегда оставляла меня равнодушным из-за тайной мысли, каким искусственным должен быть такой смех. Мне казалось, что красивый смех должен быть естественным и ненатянутым. Но сейчас, несмотря на то, что я многожды видел, как она смеется, я говорил себе с готовностью, с восторгом: «Какой у нее красивый смех!»
Какую прелесть, какое сокровище я отдавал другому! И, главное, кому?! Как глупо. Упустить свое счастье по обычному недосмотру, даже хуже того, беззаботно отказаться от того единственного, что следовало бы хранить. И десять тысяч дьяволов ада нашептывали мне в уши из каждой потаенной извилины мозга: «Ты упустил свой шанс! упустил! упустил! упустил! упустил!»
– Горько! – закричал генерал.
Сильвия и Гюстав поцеловались.
Оркестр сыграл туш.
Напротив меня сидел Гарри, и он вдруг спросил:
– Где Бог? Он что, везде?
– Думаю, да.
– И что, в этой бутылке тоже?
– Думаю, да.
– Но как Он попал туда, ведь бутылка закупорена?
– Думаю, Он уже был внутри, когда бутылку сделали.
– Но почему Он тогда не утонул в вине?
– Думаю, Он может существовать везде.
– Но я Его не вижу, – произнес он, всматриваясь в Шато Лафит разлива 1900 года.
– Я тоже, – признался я, – пока нет.
Перевод: ВАЛЕРИЙ ВОТРИН
* Полностью роман У. Герхарди «Полиглоты» выходит в начале 2008 года в издательстве «Лимбус-Пресс».