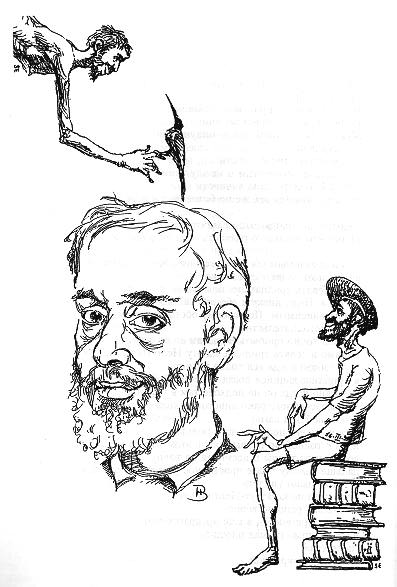ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
1-ая маска:
Хватит душой прикипать к сестрорецкой дешёвой терме.
И телом тоже. Достаточно избалованной эпидерме
И этих трех пасьянсов из берёзовых да дубовых шкурок.
Ты — не ты уже, а — фи! — мифический классический турок,
В котором булькает ленивое вещество,
похожее на номер седьмой балтийского пива.
Фу! Никогда киликийская дева Фива
Не пригласит тебя на скачки имени Красного Геркулеса.
…Ну, прояви хоть проблеск эфирного интереса.
Неужели тебя так Восток измудохал, так измочалил,
Что книга «В пустыне» дороже стала, чем книга «В начале»?
Ну, спой хоть, светик, аль не поэт? В позе чурбана
Лежишь и все сводишь к тому, что умножение
«поздно» на «рано» —
Все тот же ноль недозрелый ежедневного суицида.
Да иди ты, знаешь куда? К папе Аида
И Зевса, и других… А что? Недалеко ведь, кстати…
Давай, вставай, продолжим время кормить в Кронштадте.
Не на его ли лёд молодость старичков бросала?
Шевелись, териокское рыло, тебе не покажется мало!
2-ая маска (лживенько):
Какой там лед? Да и форель в заливе
Не водится. А праздник Сатурналий
В его хроническом и красочном порыве
Мы в декабре — забыла? — отмечали.
И этот купол шишаком сосновым
Застрял в Маркизовой мазутной луже.
Не свежим, но отчасти новым
Заветом он навеян и остужен…
1-ая маска:
Слушай ты, патетический козёл, своим шерстяным ухом!
Или смотри. Мы цокаем по чугунным чухам.
А вот раздолбайская дамба. А это — Морской, большой такой,
Посейдону зависть, а девкам из твоего института — покой
И умиротворение несущий. А этот ров — как неприличная рана,
Папы Кроноса, оскоплённого сыном Урана.
А вот и…
2-ая маска (без эмоций):
Стоп-стоп-стоп. Если это всё-таки Сатурналий,
То переодеться нам не пора ли?
И поскольку ты меня достать и раздразнить сумела,
То я предстану в виде безумного тела,
Отношения к Петровым начинаниям якобы не имевшего,
И ещё три тыщи лет назад онемевшего…
Имя ему то ли Мейдад, то ли Эйдад,
Не допустили его до шёлковых врат
Притягательной, обольстительной скинии.
И он, шнуры теребя изнурительно синие,
В стан пошёл нести ахинею,
По пути к песку языком прилипая, и немея, немея…
1-ая маска:
Ага! Мне кажется, ты понял пружину нашего веселья.
Так заведи её, дружок, за ось колесика безделья!
2-ая маска:
Ну, значит, кажется, я понял пружину нашего веселья.
Ну, значит, это… Завожу за ось колесика безделья!
ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Баржи затопили в Кронштадте,
Расстрелян каждый десятый…
<…>
Теперь молюсь в подполье,
Думая о белом чуде.
М.Кузмин
Первое описание Кронштадта, как основы посейдонова трона,
Мы встречаем в диалоге «Критий» бронзописца Платона.
Там данный остров назван Атлантиды частью, её нежной долей,
А также сия круглая суша именуется Древней Метрополией.
Имя отца Посейдон дал городу из корыстных соображений,
Чтобы на предка потом списать весь фейерверк поражений.
И просчитался. Время сыграло с Нептуном такую мгновенную шутку:
Впитало в себя, как в губку, глубокий некогда Финский залив. И жутко
Стало глядеть отцу Минотавра на обнажения красного карельского гранита.
Он, отец также Тезея и некоторых аргонавтов, и Тритона, чья мать Амфитрита,
Забился селёдкой половозрелой на отражающем Сестрорецк мелководье,
Ощущая, как хроник-папаша снова наводит порядок безумных вещей в природе.
Вот тогда-то входящие в союз царей балтийские матросы
Разболтались в своём величии, разлеглись, как росы,
На сумеречных лопухах, размечтались пьяно
О скором своём владычестве, о скором конце Урана,
Обогащённого отнюдь не конвенциональным средством.
Так и порхали, златокудрые, между детством и детством
В дивной стране странного сплава, охренительного орихалка
(Об этом металле смотри у Платона). Однако сломалась порхалка…
Реактор крякнул, рванул, сердешный, и на три мили
Вверх выплюнул серу и пламя, и прочую гадость Стронгиле.
(Это ещё одно название круглого острова, входящего в архипелаг Атлантиды).
Вздрогнул Нептун, и сдохли гады морские, видавшие виды
Кратера Кракатау, что завял от зависти. Озоном запахла могила,
И потянулся шлейф того света в сторону Голубого Нила.
Именно там страдали евреи на сооружении пирамидальных строений
И терпеливо ждали, когда же родится гений
И выведет всех, кто верит в единого Бога больше, чем в Ра или Раму,
В землю, давно ещё обещанную Якову, Исааку и Аврааму.
Гений тем временем не просто родился, но и подрос, и в кусте акации
(Или терновника, или шиповника) первым узрел действие радиации.
И посетило единственно правильное откровение Моисея,
И с ним, покрываясь струпьями, светясь в темноте, энергично лысея,
Доказать пытался пророк, что последствия далекого «бум» отнюдь не лепы.
Никто толком не слушал его, ни Рамсес, ни народ, пока не закапал на репы
Специфический дождик, и тут начались такие оказии,
Что впоследствии получили название египетских казней.
Неспроста в них следы экологической катастрофы иные учёные ищут,
Объясняют, как воду в реке красные водоросли превратили в кровищу.
Как ожиревшие жабы на берег выходят или проникают всюду,
Как блохи, клещи, мондовошки досаждают животным и прочему люду.
А также причины сибирской язвы, нарывов, нашествия саранчи, града,
Тьмы египетской, гибели первенцев — объясняют течением ряда
Событий, связанных с извержением Стронгиле-Кронштадта,
В чем виновато (в который раз!) время, и наша любовь к нему виновата.
Итак, с помощью страны Посейдона, которую всё-таки добили, дожали,
Мы подошли к пониманию смысла одного Исхода и двух Скрижалей.
АНТРАКТ
(Рассматривание костюма «Голубые шнуры»)
…Чтобы делали они себе кисти на краях одежды своей во всех поколениях
их и вплетали в кисть края нить из голубой шерсти. И будут у вас кисти,
и, смотря на них, будете вы вспоминать…
(В пустыне, 15:38-39)
Но уважаемый Пятачок ничего не слышал — так он волновался при мысли,
что снова увидит голубые помочи Кристофера Робина. Он уже их видел однажды, когда был гораздо моложе, и пришел тогда в такое возбуждение,
что его уложили спать на полчаса раньше обычного. И с тех пор он всегда
мечтал проверить, действительно ли они такие голубые и такие помочные, как ему показалось.
(А.А.Милн. Винни-Пух и все, все, все…)
Брюхоногую тушку моллюска
Отделите от створок, снятых
С живота живого Левиафана,
И варите восемнадцать часов
На медленном огне
В медном теле кубка-тюльпана.
Добавьте пучок иссопа,
А также крупных кристаллов
(Не более горсти в сумме)
Поваренной соли.
А теперь опустите на полсекунды
В кипящее камень «тумим».
Вот и получите самую,
Самую чистую
(В садах Эдема любовную ласку),
Самую с ума в дух уводящую,
Самую голубую
И самую с неба краску.
Опустите в неё шерстяные нити
На восемнадцать дней, а впрочем,
Чем дольше, тем для здоровья полезней,
Потому что такая вплетённая
В кисти одежды нить —
Неплохое средство от лучевой болезни.
Может, не самое лучшее,
Но зато на это нежное
Ультрамариновое глядя,
Только Хорев и видишь,
О Шатре Откровения помнишь,
А вовсе не о светящемся яде.
Северный мелкий цветок,
А также свечной фитиль
Всплывают из памяти сразу,
Ибо названы в честь
Этой хирургической нити,
Продёрнутой в оба глаза.
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает.
Комиссар, товарищ Коган,
Барахло скидает…
Э.Багрицкий
Откровения составная часть — переть, петляя, к отрогам Синая,
По пути море посуху пересекая, с неба еду получая, в итоге мучительно понимая,
Что «это ж-ж-ж-ж неспроста», и смысл всего хождения по пустыне —
Прежде всего выжить. А как это сделать, известно ныне
По двум-трём книгам моисеевых сочинений, основам Закона,
Именуемых «Инструкция по выживанию в условиях повышенного радиационного фона».
Вот идите и изучайте Пятикнижие именно в этом разрезе,
Еженедельно зубрите отрывок, осколок, и влезет
При прилежании надлежащем в душу вашу осознание важности скинии
Со всеми её шестами, узлами, которыми короткие связаны и длинные линии
Вашей жизни — кому она, на хрен, нужна? Только мифу о Бецалеле
(Веселииле) и его напарнике (Аголиаве), что с помощью высшей посмели
Превратить обычный контейнер для переноса радиоактивной дряни
В самый красивый в мире Ковчег, из-под крышки коего грянет
Такой мотивчик! Не то что девки, башни рухнут, призеи
Побегут, суча блестящими лапками; хетты, шизея,
Вешаться поспешат на свои священные кипарисы,
Там где висят уже освящённые полутораметровые крысы.
Эмореи, кнанеи, хивеи и эти ещё, йевусеи,
Друг через друга прыгая, височные кости рассеют
По всем берегам африкано-азиатского разлома.
А Саркома Капоши, атерома, фиброма, базалиома –
Лучшие из напоминаний о недельном разделе “Зачатие”,
Дающем простейшие для медицинских училищ понятия.
Там, кстати, и далее вполне толково и не очень длинно
Объясняется невежам пустынным, что клин вышибается клином.
И когда вам ясно, что вас долбануло в темя лучом занятным,
И что всю судьбу уже видно по белым нечистым пятнам,
Покрывающим кожу и мужу в летах, и сопляку, и деве,
То тогда лучшим врачом только Арон Амрамович Левин
Окажется. Только он. Ну, ещё по фамилии Коган дети да внуки —
Но это потом, в условиях развития новой точной науки
Окропления тёмного места хранения жутких каменьев
Кровью свежей, шипучей, ягнячьей, вино на мгновенье
Напоминающей. Так вот, к нему, от небесных проблем косея,
Или к любому из рода этих племянников молчаливого Моисея
Спешите, расскажите, что даже одежда и стены жилищ болеют
Той же самой гангреной, заразой, проказой… И хватит на “вы”! Милее
Доктора доброго не сыщешь. Выслушает внимательно, почешет
Зудящие струпья нежно. Улыбаясь, расскажет, чем от плеши
Отличается лысина, и вынесет в соответствии с рангом служителя-артиста
Диагноз: это чисто, а это и эта, и лето, и брутто жизни твоей неуютной – нечисто.
Значит — на неделю, минимум, покинешь пределы стана,
И если не сдохнешь на свалке, то вопли “осанна!”,
Не такие глупые. Иди опять к своему светозарному эскулапу,
Неси двух живых и здоровых птиц и суй лекарю в лапу
Червлёную шерсть, кедровые шашки, пучок синего зверобоя.
Одно пернатое существо зарежешь над водой, а второе, живое,
Свистящее о любви, Коган макнет в тёплую, в глине, жижу
Вместе с предметами данными и попросит тебя поближе
Подвинуться и ещё чуть-чуть, и отхлещет по заживающей морде
Куропаткой мокрой семь раз, и в поле птицу отпустит, проводит,
А тебя объявит прозрачным, сияющим, лучистым.
Прополощи одежды свои, брови сбрей и всё прочее, ибо стал чистым,
И светлому тебе предстоит через неделю явится вторично
И захватить двух баранов, одну овцу, муки пшеничной
Примерно ведро, перемешанной с маслом маслин, и масло для омовения.
Коган, одобрительно хмыкнув, поставит тебя перед входом в Шатер Откровения.
И когда кровь жертвы повинной ляжет на правого твоего уха мочку,
И на пальцы большие правой руки и ноги, и, наверное, на правую почку,
И правое полушарие головного мозга, и всё остальное правое, о чём не сказали,
Вот тогда распахнётся льняной полог, и долбанут тебя вторично скрижали!
Вот оно, полное от комплексов атлантических, микено-минойских, исцеление!
Ну, так до свидания, особь старая, знакомая. Прощай, дохроническое поколение.